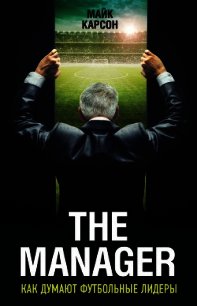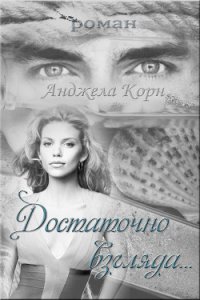Со стыда провалиться - Робертсон Робин (читаемые книги читать .txt) 📗
Есть что-то особенное в молниеносной скорости, с которой выступление может внезапно пойти наперекосяк. На несколько секунд в твоем желудке повисает обжигающе ледяной страх: ты понимаешь, что со снисходительно-самоуверенной улыбкой на лице только что шагнул (или, скорее, влетел) в комнату, где нет пола. Я уже испытывал такие резкие падения в пучину позора — взять хотя бы тот эпизод в прямом эфире трансдунайского радио, когда ведущий на бойком английском языке с американизированным акцентом представил меня: «А сегодня мы рады приветствовать в нашей студии Бретта Истона Эллиса [84]», — но переживать унижение, стоя перед аудиторией, мне еще не доводилось.
В молчании чувствовалось предвкушение чего-то зловещего, словно толпа ждала, когда топор опустится на плаху.
Невероятно — я все-таки надеялся, что интервью пройдет удачно!.. Только после того, как я открыл рот (я подготовил вступительную речь о публичном интервью Джима Моррисона здесь же, в Институте современного искусства, в конце шестидесятых), до меня вдруг дошло, какой рухлядью — безнадежно устаревшей, покрытой едкой средневековой пылью — я выгляжу в этой ситуации. Такое же впечатление произвел бы Э. Н. Уилсон [85], поднявшись на сцену «Клуба 100». В зале послышались смешки, сначала сдавленные, затем переходящие в откровенный гогот. Увидев на следующий день фотографию в «Индепендент», я понял, что сперва их развеселил вид сидящего рядом со мной Марка — тот прихлебывал пиво из бутылки, при этом отставив в сторону мизинец. Желчная пародия на аристократизм — классовый боец, спущенный с цепи на презренного агента джентрификации [86].
Я слишком поздно вспомнил, что такие мероприятия — «беседы за круглым столом», выступления в книжных магазинах, и им подобные — насквозь буржуазны по своей сути: они предполагают сообщничество между интервьюируемым, интервьюером и аудиторией, в каковом безусловно доминирующей нотой является неприкрытая назидательность. А я находился лицом к лицу с человеком, который в 1979 году написал «Угрозу пролетарского искусства» и вышвырнул Кортни Лав из туристического автобуса; с человеком, который предпочел сдаться лос-анджелесской полиции, но не выпустить из зубов сигареты в салоне самолета. Смит разнес в клочья все институты поп-культуры среднего класса — от фестивалей под открытым небом до студенческого вегетарианства; и поскольку величайшим героем он считал Уиндэма Льюиса [87], то избрал для себя хорошо всем известную публичную маску Врага. Не важно, что я ходил на концерты «Фолл» раз двадцать, что с неослабевающим восторгом слушал их композиции, а потом писал об их творчестве как о неотъемлемой составляющей современного искусства. Я выглядел точь-в-точь как Уилфрид Хайд-Уайт [88], решившая взять интервью у Эминема.
Мне вдруг пришло в голову, что я никогда не понимал истинных посылов «Фолл». Конечно, мне следовало бы знать, что классовые воины с их шаманскими плясками не дают приглаженных интервью в духе ИСИ, они действуют на ином уровне, непрерывно демонстрируя самозащиту и обязательное сопротивление нивелирующим тискам — своеобразному процессу пастеризации — формально принятых культурных установок. Я видел Жана Жене на «Саут Бэнк шоу», видел, как он бунтовал против попыток вежливого «посредника»-репортера влезть ему в душу. Выступить в роли любезного гостя студии, подробно раскрывающего свой творческий метод, для Марка Смита все равно что заживо похоронить новый проект. Но эта мысль посетила меня слишком поздно.
— Помните ли вы свои первые концерты в фабричных клубах? — спросил я, теребя потными пальцами блокнот с пометками.
— Конечно, помню. Разве я похож на идиота? — последовал резкий ответ.
— Как давно вы начали интересоваться музыкой?
— Мой дядя играл на пиле. Восхитительный инструмент!
Оставшиеся пятьдесят минут превратились для меня в темную вихревую воронку — где-то далеко, в ее невидимой вершине мое сознание на какой-то миг оставило бренное тело.
Через несколько лет я попросил в Институте современного искусства копию аудиокассеты с записью того интервью. Я слушал пленку и поражался, как великодушен, красноречив и добр был Марк на протяжении беседы, как много высказал умного. Однако в тот вечер обозначилось коренное противоречие между реальным и ожидаемым, между публикой, выступающим и замыслом мероприятия, — и это почти свело на нет ценность самого разговора: оказалось, что попытка уложить публичное интервью с Марком Смитом в пределы расплывчатых культурных границ — затея бессмысленная. Как когда-то сказал Кен Додд [89], «Попробуйте изложить фрейдистскую теорию юмора субботним вечером на втором киносеансе в „Глазго Эмпайр“».
Вдобавок ко всему резонанс, который вызывало интервью — непостоянство атмосферы, которое Альберт Голдмэн, биограф Элвиса Пресли, назвал «акустической энергией», — вполне мог быть отражением того неистовства, какое Смит неизменно придавал выступлениям группы «Фолл», словно бы, шагнув на сцену, он превращался в жуткое привидение. К концу интервью вопросы из публики стали уже хамскими.
— Марк, вы по-прежнему пьете? — спросил мужской голос сбоку, из темноты зала.
Это уже почти конец пленки.
— Ну все, мне пора, — отвечает Марк, и пустоту, образовавшуюся с его уходом со сцены, заполняет нарастающий треск статического электричества.
Дэррил Пинкни
Достойно отомстить или достойно снести
Если за оскорбление нельзя достойно отомстить, его нужно достойно снести.
Лет десять тому назад, а то и больше, я отправился в презентационный тур по стране со своим романом — в твердом переплете он был издан годом раньше, а теперь выходил массовым тиражом в мягкой обложке. В поездке было все: и странные ведущие со скверным характером, и мгновения, когда я чувствовал поддержку аудитории, и череда мелькающих вечеров, наутро после которых тебя мучает Похмельный Синдром Дружелюбия, потому что ты так много говорил и так хотел понравиться, что набивался в лучшие друзья каждому встречному. Случались и унизительные провалы. В пригороде Атланты во время жуткой грозы менеджер книжной лавки, где планировалось мое выступление, настоятельно убеждал меня: мол, ты же не виноват, что не родился Мадонной и не можешь собрать полный зал в такую отвратительную погоду. От раскатов грома дрожали стекла. В лавке не было практически ни души. К восьми пятнадцати в первом ряду сидели трое чернокожих, остальные места пустовали. Двое белых покупателей, заподозривших, что сейчас начнутся скучные чтения, адресованные стульям, юркнули к стеллажам с налоговыми справочниками. Один из троицы чернокожих сообщил, что они руководят экспериментальным театром в Атланте и не понаслышке знают, каково это — когда на сцене больше народу, чем в зале, поэтому, ежели мне хочется почитать, они готовы слушать. Я надеялся, что этот анекдотичный случай позабавит и тронет сотрудников отдела рекламы в издательстве, выпустившем мою книгу.
Несколько дней спустя в туманном Портленде я встретил приятеля-англичанина — поэта, который за день до того выступал перед трехтысячной аудиторией в главном городском театре. Удивительный, прекрасный, культурный, современный Портленд. Вместе с приятелем мы вошли в книжный магазин, где должны были проходить чтения, и я сунул в карман экземпляр своего романа. А потом произошла эта нелепая вещь.
— Эй! — послышался оклик.
Я не обратил внимания.
— Простите, я к вам обращаюсь.
Я обернулся и увидел продавца, на груди у которого висела табличка с именем.
— Пройдите сюда, пожалуйста, — сказал он.