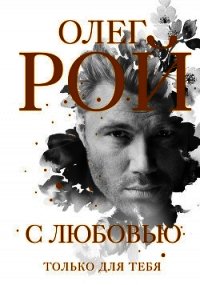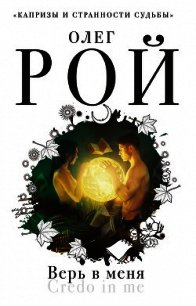Сердца четырех - Сорокин Владимир Георгиевич (читать книги без .txt) 📗
— Значит, по-вашему, Сталин — мерзавец, а не великий реформатор?
— Для духовного подъема и национального возрождения России Сталин сделал больше всех русских правителей вместе взятых. Как христианин и человек здравомыслящий я приветствую реформы Сталина. Как экономист и геополитик я так же приветствую их. Но как русский интеллигент, я не могу не осудить эти реформы. И заметьте — реформы! Но не Сталина. Вспомните Бердяева: русский коммунизм с одной стороны — явление мировое и интернациональное, с другой — русское и национальное. Ленин, увы, этого не понимал.
— Зато он прекрасно понимал контрпартнерство Германии.
— О чем Сталину приходилось только догадываться. Смутно, но догадываться.
— И все-таки я Сталина ненавижу, — Штаубе выпил свой коньяк, — его непоследовательность, мягкотелость, нежелание проявить характер в решении важнейших вопросов, его ставка на союз интеллигенции и крестьянства в противовес пролетариату… говнюк, ебаный говнюк! Самое гадкое, когда гениальный человек не способен распорядиться своим талантом. Обезглавить Красную Армию в начале тридцатых было бы величайшим благом, но делать это в 37-ом или в 40-ом — величайшее преступление! Ликвидация зажиточного крестьянства, ограбление крестьянских хозяйств, насаждение колхозной барщины — все это гениально, здорово, но…
— Но проводить это в конце 20-х — абсурдно! — усмехнулся Ребров.
— Конечно! Подожди лет десять, дай сиволапым зажиреть, дай им набить закрома…
— А потом уже — грабь! Если б он начал это хотя бы в 36-ом, эффект от раскрестьянивания был бы в пять, в десять раз больше. Русское крестьянство начало обретать экономическую независимость, пожалуй, только в 910 году, потом — война, революция, идиотская продразверстка Ленина-Троцкого, затем короткая пауза — и коллективизация…
— А национальный вопрос?! Задумано, как всегда у Сталина гениально, проведено в жизнь — самотеком! А вы ругаете Бисмарка!
— Не Бисмарка, а прусских филистеров, выхолостивших и извративших его идеи. Молотов и Бухарин такие же филистеры, заслуживающие всеобщего презрения. Сталину серьезно мог помочь не Каганович, а Зиновьев. Сложись его судьба по-иному, мы бы жили в другом государстве. Путь Зиновьева в лабиринтах участи так же трагичен, как путь Гиммлера: светлый луч, тонущий в жестких бюрократических структурах.
— Поразительно! — Штаубе чистил яблоко перочинным ножом.
— Никто из этих индюков не позволил себе протянуть руку направо, коснуться надежного плеча, посоветоваться! Что это, ебена мать? Эгоизм или страх?
— Обтростон, — ответил Ребров после непродолжительного раздумья.
Поезд стал тормозить, за окном замелькали огни города.
— Свердловск, — Штаубе посмотрел в окно.
— Вы и здесь были?
— Ни разу! — засмеялся Штаубе, — 66 лет потребовалось, чтобы доехать! Вот вам и Россия! Давайте выпьем за это!
— За дорогу, длиной в 66 лет?
— За нее! — Штаубе достал из рюкзака бутылку водки, стал открывать. — Мне всегда нравились эти сумасшедшие российские расстояния. Они как-то… возбуждают, правда?
— Меня наоборот — угнетают. Кстати, Генрих Иваныч, вы смотрели по полосе?
— А как же! Еще утром, когда вы умываться пошли. Конус в допуске.
— Сколько?
— 4, 7. Корень не виден.
Ребров удовлетворительно кивнул, пододвинул стакан:
— Что ж, в таком случае и выпить не грех.
В 9.12 стуком в дверь разбудила проводница. Ребров открыл, она вошла, поставила на стол чайник и стаканы:
— С добрым утречком! Что ж вы Омск проспали? Там на перроне такая торговля шла, рехнуться можно! Шапки волчьи по сто рублей, платки пуховые всего за четвертной, валенки белые… как с ума посходили! Вот что снимать надо!
— Ничего, в другой раз… — хрипло пробормотал Штаубе, поднимая с пола протез.
— А это что за река? — Сережа посмотрел с верхней полки.
— Иртыш.
— А почему она не замерзла?
— Течет быстро, поэтому и не замерла. Я через полчасика вам еще чаю принесу.
Она вышла, громко хлопнув дверью.
— Как здесь топят жарко! — Ольга откинула одеяло, потянулась.
— Жар костей не ломит, Оленька, — сидя на диване, Штаубе налил в стакан чаю, отхлебнул. — Ах, славно.
Ребров оделся, достал свой «дипломат», открыл, понюхал пакет с частью груди Леонтьева.
— Что, протухла? — спросил Штаубе.
— Нет. Все в порядке, — Ребров убрал «дипломат», взял полотенце, тюбик с пастой, зубную щетку. — После завтрака бросим на малой разметке. Сережа — разводящий.
Обедали в полупустом вагоне-ресторане. В ожидании десерта Ольга раскладывала на столе пасьянс «Могила Наполеона», Ребров курил, глядя в окно, Сережа вертел кубик Рубика, Штаубе читал вслух из «Князя Серебряного»:
Множество слуг, в бархатных кафтанах фиялкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлином следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Обед продолжался. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных уток и куриц с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью черную и курячью шафранную. За ухой подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, вечерние почки и караси с бараниной. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном.
— Вот так, Ольга Владимировна. А вы говорите — неплохая кухня.
— Не сложилось, — Ольга стала собирать карты.