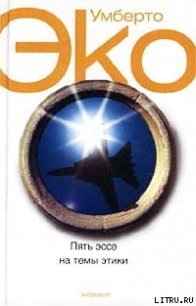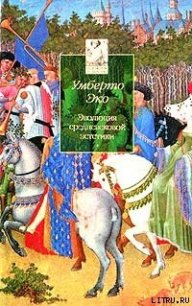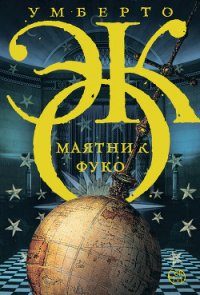Остров накануне - Эко Умберто (книга регистрации .txt) 📗
Первая из планет на их пути была непорочная Луна, во власти ночи, освещавшейся сиянием дня Земли. А Земля была видима вдалеке, на линии небоската: огромная, навислая гора кукурузной поленты, почти над головой Роберта варимой и варящейся, валящейся выспрь, с воркотанием взрывающейся, ворошимой, ворчащей в лихоманке, в корче, в желтухе, в тряско – бледной лихорадке, пробуравленной буграми бурно – бурых пузырей, бормочущей, бурлящей и бурунами бурчащей… Лихорадочный жар преображает заболевшего в кукурузную бурду, и любой блик в глазах отдается, будто бур пробирается в череп, превращающийся в бурдюк…
Он на Луне и с Голубкой.
Согласимся, что не стоит искать связности и правдоподобия в том, что рассказывалось выше, поскольку речь идет о кошмаре отравившегося ядом Камня – рыбы. Но то, что я намерен изложить далее, превосходит любые наши ожидания. Мысль или душа Роберта, в любом случае его vis imaginativa, посягнули на святотатственную метаморфозу. На Луне он увидел себя в обществе Голубки, но она была не Владыкою небесным, а Владычицей его дум. Это была Лилея, наконец отбитая у Ферранта. Подле морей Селены Роберт вступал во владение тем же, что было отобрано у него братом подле озер фонтанного острова. Он лобзал ее лик своими очами, он созерцал устами, впивался, вкушал и впитывал, и играли в прятки друг с другом возбужденные языки…
Только тогда Роберт (лихорадка, по – видимому, слабела) наконец – то опамятовался, но остался в очаровании пережитого, как бывает после сна, который, отойдя, оставляет затронутым не только дух, но и самое тело.
Он плакал, но из – за чего? От счастья снова обретенной любви? Или от жалости, что перекроил, при поборничестве лихорадки, для которой не писаны жанровые законы, Священную Мистерию в скабрезный фарс?
Этот миг, сказал он, мне действительно будет стоить ада. Ибо я, конечно же, не лучше Иуды или Ферранта. Более того, я и есть Феррант, до сих пор я использовал его, беззарочного, дабы делать такое, до чего сам не допускал себя по причине трусости.
Может, меня и не призовут к ответу за эту грешность, потому что грешил не я, а Рыба – камень, которая заставляла меня блудить на свой лад. Однако если я достиг подобной безотчетности, это сигнал, что и взаправду близится моя кончина. Надо было мне повстречаться с Камнем, чтобы отважиться возмыслить себе смерть. А ведь этот помысел обязан быть первейшим долгом хорошего христианина.
Почему же я никогда не помышлял о смерти и о гневе хохочущего Господа? Потому что следовал поучениям моих философов, согласно которым смерть составляет натуральную необходимость, а Бог есть тот, кто к беспорядку атомов применил Закон, располагающий их в гармонии мирозданья. Мог ли подобный Бог, учитель геометрии, спроектировать беспорядок Преисподни, хоть бы и в целях возмездия, и мог ли он смеяться над подобной перетряской всех на свете потрясений?
Нет, Господь не смеется, говорил себе Роберт. Но Он сдается пред лицом Закона, который сам Он постановил. Этот Закон взыскует, чтобы порядок нашего тела был нарушен, как несомненно разрушается уже и сейчас мое тело посреди всей этой прорухи. Говоря, Роберт видел червей у рта. Эти черви выходили не из кошмара, а из щелей между досками, где самопроизвольно возникали на куриных пакостях, будучи порождением их экскрементов.
Роберт приветствовал приход этих возвестников распада, сознавая, что растекание в бесформенной материи следует воспринять как скончание мук, как соответствие с расположением Природы и с волей Небес, управляющих ею.
Надо немного подождать, бормотал он как на молитве. Через совсем немного дней мое тело, пока еще хорошо сбитое, претерпит изменения в расцветке и сделается брюзглым, как чечевица, потом почернеет от головы и до ног и выделит подспудную теплоту. После этого тело опухнет, и по его пухлоте пойдет гнойная плесень. Вскоре после того живот растрескается, и вывалится брение, и в жиже станут колыхаться, может, глазное яблоко с червобоем, а может, полгубы. По этой слякоти полезут многие семейства малой мошкары и мелких тварей, которые пойдут клубиться по моей крови и переваривать меня, кроху за крохой. Какая – то часть их выползет из груди, другая вытечет со слизью из носа; прочие, обмазанные прелью, обживут мой рот, вползая и выползая, а самые сытые закопошатся в горле… Пока все это будет, «Дафну» обживут пернатые, и занесенная ими с острова зелень даст начало былью, и из моего перегноя корни злаков возьмут корм. Наконец, когда от моего телесного единства останется голый скелет, за месяцы и годы – а может, тысячелетия, – этот каркас распылится на атомы, по которым станут ступать живущие, не задумываясь, что весь земноводный шар с морями, с пустынями, с лесами и долами не что иное, как населенное ими кладбище.
Ничто так не споспешествует здоровью, как Опыт Благого Умирания, в котором через смирение обретается легкость. Так говорил ему когда – то кармелит, и это было правдой, потому что к Роберту возвратились голод и жажда. Он был слабее, чем когда грезил, будто фехтует на юте, но не так слаб, как когда простирался около куриц. У него хватило силы выпить яйцо. Жидкость, стекавшая по горлу, имела прекрасный вкус. И еще вкуснее показалось ему молоко ореха, который он вскрыл в кладовке. По окончании медитаций о своем мертвом теле, сейчас он умерщвлял ради потребы этого тела, чтобы его оздоровить, тела, исполненные здоровья, ежеденно получающие от Природы жизнь.
Так вот почему, за вычетом некоторых фраз учителя – кармелита, никто в имении Грив не подводил его к мыслям о смерти. В часы семейных бесед, почти всегда совпадавших с ужином и обедом (в перерывах – одинокие скитания Роберта по закоулкам старинного дома, где он часами медлил в тенистых полуподвалах, вдыхая аромат яблок, оставленных дозревать на полу), говорилось только об урожае дынь, о жатве хлебов и об ожидаемом сборе винограда.
Роберт припоминал, как мать его поучала жить счастливо и благоденно изобильными плодами гривского домохозяйства: «И нехудо, ежели ты не будешь забывать запасаться засоленным бычачьим мясом, а также овечьим и бараньим, телячьим и свиным, потому что запас сохраняется долго и пригождается всегда. Режь мякоть умеренно большими кусками, клади на поднос и засыпай густо солью и держи так неделю. Потом вешай на балки на кухне около печи и пусть коптятся себе в дыму, и делать это надо, когда прохладно, ведрено и дует ветер, и после ноябрьского Мартына, и заготовки сберегутся сколько пожелаешь. В сентябре же заготавливают птицу и бьют ягней на целую зиму, а также каплунов, старых куриц, уток, готовят гусиные полотки. Не пренебрегай даже ослом, если осел ломает ногу, вели выделать из ливера круглые колбаски, которые потом пусть надрежут и жарят, и это самая господская пища. Пусть к Великой Четыредесятнице будут припасены и грибы, и суповые наборы, и изюм, и яблоки, и все, что Господь позволяет; на тот же срок, на Великий Пост, надобно иметь разные корни и клубни и такие травы, которые обваливать в муке и жарить на растительном масле, и выходит вкуснее миноги. Тогда же делают пресные пирожки, и в них кладется постная начинка. На тесто отпускай оливковое масло, муку, розовую воду, шафран и сахар, потом подливают немного мальвазии, вырезывают кружочки, как оконные стекла, а на начинку идет тертая булка, отварные яблоки, гвоздичный цвет и толченый орех, потом подсаливают и сажают в печь, чтобы подрумянилось. Вкуснее, чем у архиерея в доме. Когда минует Пасха, будет время молочных козлят, спаржи, голубей… Потом начинают делать творог и мягкий сыр. Но не забывай и горох с фасолью, они хороши как в вареном виде, так и в жареном, и запеченные в тесто, это превосходные и полезные блюда. Так что, любезный сын, надеюсь, ты проживешь, как живали деды, миловзорно и без кручины…»
Вот так – то, в имении Грив не было в заводе разговоров о смерти, о суде, загробной муке и рае с адом. Со смертью Роберт повстречался в Казале, а в Провансе и в Париже он приучился рассуждать о смерти то для благочинной беседы, то для разнузданного спора.