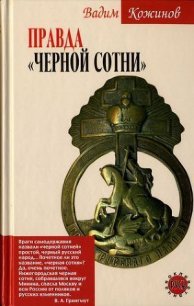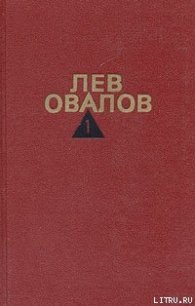Двадцатые годы - Овалов Лев Сергеевич (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Слава не очень-то отчетливо понимал, какого ответа ждет от него Никитин, и недостаточно сознавал, что ответ этот важен не столько для Никитина, сколько для него самого.
И почему-то вдруг принялся рассказывать Ивану Фомичу об Арсеньевых.
— У меня есть тетка, сестра моего отца, муж ее народный комиссар, они старые революционеры, большевики…
Он рассказал о посещении Арсеньевых, о скромной квартире нынешнего министра, о скудном их рационе, о нравственном пуританизме…
Арсеньев вступил в партию одновременно с Лениным, вел в свое время рабочие марксистские кружки, сидел в тюрьме, несколько лет провел в ссылке, эмигрировал за границу, жил и в Лозанне, и в Париже, в 1902 году примкнул к большевикам, а в 1914-м к циммервальдовцам, почти одновременно с Лениным вернулся в 1917 году в Россию, был одним из руководителей вооруженного восстания, словом, большевик без сучка и задоринки и в то же время полный антипод Ленину.
Мысль Арсеньева вряд ли проникала дальше, чем за порог своего кабинета, а Ленин смотрел далеко вперед, и то, что другим удавалось увидеть лишь при непосредственном соприкосновении с событиями, Ленин предвидел задолго до наступления событий. Ленин превосходил своих соратников и глубиной ума, и широтой души, и целенаправленной волей, и при этом никогда и ни перед кем не пытался обнаружить свое превосходство, а Арсеньев даже перед племянником кичился своим превосходством. Ленин щедро делился богатством своего интеллекта с окружающими, а Арсеньев держал все свои духовные ценности при себе. Ленин был солнцем, центром системы, в которой Арсеньев был лишь одним из многих и малозаметных спутников солнца.
И чем тщательнее перечислял Слава достоинства Арсеньева, его скромность, вежливость, непритязательность, деловитость, принципиальность, тем заметнее превращались они в свою противоположность, все было то и не то…
— Подождите, не перебивайте меня, — взмолился вдруг Слава. — Я обязательно должен досказать…
Но Иван Фомич и не думал перебивать, наоборот, внимательнейше слушал, понимая, что в отрицании Арсеньева Слава утверждает в себе Ленина.
— Вы понимаете, он министр, а живет ну совсем как какой-нибудь заурядный врач или чиновник…
Слава рассказал и как тетка поила его чаем, и как охотно ел Иван Михайлович чечевицу, и даже как Иван Михайлович отказал ему в протекции, которую племянник и не думал искать у своего дяди.
Все, все у Арсеньевых было безупречно и правильно, и как же все это было мелко и ничтожна!
Иван Фомич вдруг схватил руку Славы и стиснул ее меж двух своих громадных ладоней, пожал и еще раз пожал, и было в этом рукопожатии что-то и дружеское, и отеческое, в этом рукопожатии заключалось утверждение самого Славы.
— Я понимаю вас, после встречи с Лениным такие люди, как Арсеньев, утратили для вас всякий интерес…
Он еще шире распахнул оконные рамы, по календарю стояла глубокая осень, но солнце пекло, как в июле, и какой-то телок, заскочивший в заброшенный школьный сад, носился там.
— Слава, — торжественно сказал Иван Фомич я даже поднялся, точно почувствовал себя на уроке. — Будьте счастливы, вам удалось испить живой воды у самых ее истоков. Такое выпадает на долю немногим. Пить эту воду будут миллионы людей, она разольется, как Волга, но вам довелось напиться прямо из родника. Ленин для нас нечто большее, чем Председатель Совнаркома. Он наше знамя, наша программа, и это все очевиднее нашему народу, а скоро будет понято и всеми другими…
За окном по-прежнему сияло солнце, жара разморила даже телка, тот перестал носиться по саду, стоял на одном месте и обгладывал молодую яблоньку.
— Не нравится мне эта теплынь, — повторил Иван Фомич, — когда же наконец осень вступит в свои права? Солнце тоже хорошо в меру. Что делается в полях! Озимые совсем пожухли. Нам бы сейчас дождей, дождей…
4
— Поедешь завтра, — сказал Данилочкин, строго глядя на Ознобишина, и заковылял к председательскому месту, он все чаще заменял в исполкоме Быстрова, тот свирепствовал, носился по волости из конца в конец, ни один дезертир не мог от него укрыться, хлеб находил, куда бы ни спрятали.
— Поедешь завтра за керосином, — повторил Данилочкин, садясь и покряхтывая.
Он ждал вопросов, но Слава молчал: ведь приказывал Быстров, а Быстрову Слава подчинялся беспрекословно.
— Отправитесь завтра чуть свет, Степан Кузьмич наказал послать в Орел тебя и Чижова. Егор все ходы и выходы в городе знает, только ему могут не дать, у него мошенство на роже написано, а украсть может, самого себя обокрадет, а ты и получишь и довезешь, под твою ответственность отдаем керосин, получите — глаз не спускай…
Слава так и не понял, кого имеет в виду Данилочкин — Чижова или керосин, впрочем, по существу, это было одно и то же.
— Довезем, Василий Семенович! — заверил Слава. — Куда он от меня денется!
— Ну то-то, — сказал Данилочкин. — Иди предупреди мать…
Чижов застучал кнутовищем в окно кухни еще затемно, переполошил Надежду, та сперва ничего не разобрала, перепугалась, заклохтала:
— Чаво? Каво?
Чижов захохотал.
— Давай своего барчука!
Но Слава не спал. С вечера прикорнул одетым, не любил, когда его дожидались.
Не спала и Вера Васильевна. Не могла привыкнуть к отлучкам сына.
Он с вечера предупредил мать:
— Завтра еду.
— Куда?
— В командировку.
— В какую командировку?
— В Орел.
— Зачем?
— За керосином.
— Неужели, кроме тебя, некого послать?
— Мамочка, это же как золото…
Слава зашнуровал ботинки — вместо шнурков все в деревне пользовались крашенной в черный цвет пеньковой бечевкой, — накрутил на ноги обмотки, натянул куртку, нахлобучил фуражку — и готов.
— Надень под куртку мою кофточку, замерзнешь…
— Ты что, мам, смеешься?
— Кофточка шерстяная…
На улице, хоть темно еще, заметно, что пасмурно, день обещал быть теплым, похоже, собирался дождь.
У крыльца стояла телега, запряженная каурой лошаденкой, спереди, свесив через грядку ноги, сидел Евстигней Склизнев, один из самых худоконных мужиков на селе, пришел его черед справлять трудгужповинность, Чижов топтался возле телеги.
— Егор Егорович, — взмолилась Вера Васильевна, — уж вы присмотрите за Славой…
— "Присмотрите", — насмешливо отвечал Чижов. — Вячеслав Николаевич начальник, а мы люди маленькие.
— А если дождь?
— Не сахарные!
— Егор Егорович!
— Не тревожьтесь, у меня с собой дождевик.
Мама ни в одну поездку не отправляет его без напутствий.
Слава обошел телегу, сел по другую сторону от Склизнева.
— Поехали, поехали, — сердито забормотал он.
Лошадь с места затрусила мелкой рысцой.
— Счастливо! — крикнул Чижов, прыгая на ходу в телегу. — Тронулись, что ли ча!
Склизнев молча вывернул телегу на середину дороги и хлестнул лошаденку вожжой, ехать ему не хотелось, только не властен он над собой.
— Ничего, Вячеслав Николаевич, не горюй, — промолвил Чижов снисходительно. — Доставлю тебя туда и обратно в целости и сохранности.
Чижов, как и многие другие в те поры, был личностью скрытых возможностей.
Подобно многим местным мужикам, молодым парнем он подался на заработки в Донбасс, лет двадцать о нем не было ни слуху ни духу, и вдруг сразу после Октябрьской вернулся с женой, замызганной, молчаливой бабенкой, и двумя сыновьями, смышлеными и задиристыми, в отца, парнями.
Распечатал Чижов заколоченную свою избенку, а чем жить? Не токмо что лошаденки какой — ни овцы, ни курицы, один ветер по сусекам свистит. Поклонился Егор миру, выбрали его мужики в потребиловку продавцом, и, глядишь, уже Егор Егорычем величают, оборотист, сметлив, прямо коммерции советник, на своем месте оказался мужик.
И не то чтобы махлевал или воровал, просто способность такая, в лавку попадали разные дефицитные товары — мануфактура, мыло, соль, деготь, предметы самой первой необходимости, товары эти реализовывались в порядке натурального обмена, рабочий класс давая промышленную продукцию, а крестьянский класс расплачивался зерном, маслом, яйцами, и сколько бы ни происходило ревизий, у Чижова все сходилось тютелька в тютельку, сколько продано, столько и получено, все всегда налицо, свои доходы Чижов извлекал из товаров, которые в те суровые времена никем всерьез и не принимались за товары, то достанет модных колец штук с полета, то сколько-то сережек с красными и зелеными стеклышками, то ящик «Флоры» — крем от загара и веснушек, а то так и бессчетное количество баночек с сухими румянами, девкам: как известно, без крема и румян не прожить. Такой товар никем не учитывался, и где доставал его Чижов, никто не интересовался, во всяком случае, по государственным разнарядкам его не отпускали.