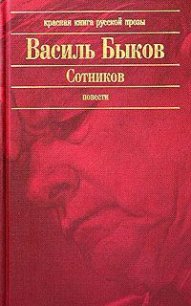Журавлиный крик - Быков Василь Владимирович (книги полностью .TXT) 📗
В сторожке потемнело, под потолком клубился дым, в окна временами прорывался ветер. Карпенко курил, лежа на спине.
— Да, хлебнул ты, видно, горя, — задумчиво проговорил старшина. — Это не сладко — тюрьма. Только было за что: виноват, как ни крути.
Свист даже зашевелился от этих слов, видно было, они больно отозвались в его и без того изболевшейся Душе.
— Было за что — это правда. Дали пять — согласился. Дали б десять — ни слова б не сказал. Все б отбыл. Заслужил — получил по справедливости. Только, знаешь, не хочу, чтоб всю жизнь попрекали. Что было, то прошло и быльем поросло. Нужно, еще отсижу, стерплю, только без бирки, без ярлыка — человек я ведь, ярина зеленая… И хоть балда безголовая, дурак последний, только, думаю, не хуже многих других — тихоньких, ровненьких… Вот…
Карпенко в ответ не сказал ничего. Все молчали, и слышно было, как выл-завывал за окном неумолчный осенний ветер.
8
Выйдя из сторожки, Овсеев остановился и прислушался. После света из печки, пусть ничтожно малого, в этой кромешной тьме ни зги не было видно, только по-прежнему монотонно шелестел дождь да судорожно выл ветер. Бойца сразу охватила глухая осенняя ночь, тело вздрогнуло от зябкой промозглости, он поднял воротник, нерешительно ступив во тьму.
Под ботинками чавкала грязь, однообразно стучал и стучал дождь по намокшей спине, пилотке, и тяжелое предчувствие все глубже и глубже забиралось в душу бойца.
Одно из двух, думал Овсеев, или все они во главе со старшиной круглые остолопы, или он сам нытик и трус. Но трусом он не признал бы себя ни за что, потому что помнил в жизни моменты, когда Алик Овсеев решался на такие поступки, на какие не всякий был способен. Просто теперь он понимал то, что не хотели или не могли понять ни старшина, ни Свист, ни Глечик, ни Фишер, и это не на шутку беспокоило его. Ну, конечно, их оставили в заслоне не для того, чтобы они, просидев спокойно сутки, могли затем догнать батальон. Если уж приказали держать эту дорогу, значит, именно здесь подстерегает опасность, здесь ожидается тот главный удар, от которого хочет уйти полк. Но что они, шестеро, могут сделать против фашистской оравы, когда с ней четвертый месяц не справляется вся наша армия? Первым же ударом их тут прихлопнут, как комара на лбу. Кто только придумал такое пожертвование? Явный просчет, глупая затея, никудышная мера
— и только. А этот твердолобый, недалекий Карпенко уперся как баран в новые ворота, и знай себе заладил: приказано — выполняй.
Овсеев прошелся по меже, далеко не отходя от сторожки, прислушался и, не услышав ничего подозрительного, решил спрятаться под крышу. Если там прижаться к самой стене, можно хоть немного укрыться от дождя и пронизывающего ветра. Окоченевшие руки сами ищут тепла за пазухой и в карманах, из сторожки слышится разговор, о чем-то треплется Свист. Какой-то непонятный он человек, этот Свист. Так вроде и ничего — сообразительный, ловкий и многое повидал, а никакого критического подхода к обстоятельствам. Удивительно даже, как он, анархист и блатняк по натуре, может так беспрекословно подчиняться воинской дисциплине? Вначале, когда он только появился в их роте, Овсеев хотел даже подружиться с ним, потому что никого подходящего больше тут не было — все какие-то неотесанные, с которыми ни поговорить, ни поразмыслить. Но постепенно Овсеев убедился, что этот Свист больше тянется к другим, любит держаться компании, и Овсеев махнул рукой — черт с ним.
В полку Овсеев жил сам по себе. Это было не очень весело; дело в том, что ему казалось, будто он куда умнее и интеллектуальнее, чем все те, кто в этой армейской жизни был рядом с ним. Многих он презирал, на других, таких, как Глечик, просто не обращал внимания.
Постепенно привыкнув ко тьме, Овсеев стал различать тусклую линию железной дороги, очертания столбиков на переезде, слышал, как печально шумели молодые посадки у линии. На горе, на дороге все было тихо. Немцы, видно, не торопились или заночевали где-нибудь в такую непогодь, не то быть бы беде. Только нет худа без добра. Ночью они еще сумели бы оторваться от врага, скрыться во тьме, отойти, а вот завтра вряд ли. Завтра всем им придется туго, возможно, они погибнут. Это скорее всего. А погибать, прожив только двадцать лет, Овсеев совсем не хотел. Вся его душа, каждая клеточка тела гневно протестовали против гибели и жаждали одного — жить. К дьяволу эту войну, к дьяволу муки и кровь, если человеку нужно только одно — жить! Столько услад в жизни — познанных и еще не познанных, столько радости и счастья, что погибать в самом ее начале — преступление перед самим собой. Этот твердолобый Карпенко готов разбиться в доску, чтобы только выполнить приказ. А он, Овсеев, привык всегда все взвешивать, анализировать, думать и находить лучшие для себя варианты из всей суммы возможных. Эту привычку он приобрел давно, еще в школе, когда понял, что большего иногда можно достигнуть и малыми средствами. Он много читал, учился легко, среди учителей и товарищей слыл способным и развитым. Без особого труда давались ему гуманитарные предметы. Математику он тоже знал, но она требовала усидчивости, настойчивости, въедливости до мелочей, а это было не по душе «утонченной» натуре Алика. Бесконечные домашние задания по алгебре, тригонометрии, физике бесили его тем, что «съедали» все свободное время, так необходимое для спорта, удовольствий и забав. И он договорился с одноклассником Шугайло, недалеким учеником-переростком, который неплохо справлялся с математикой и второгодничал в восьмом классе из-за абсолютной неспособности к языкам. Шугайло стал готовить за Алика все домашние задания по математике, писал за него контрольные, одним словом, облегчал все его математические обязанности. Алик помогал ему во время диктантов и сочинений, но делал это хитро, и если по математике отметки у них были одинаковые, то по языковым работам оценка у Шугайло редко когда поднималась до 4. Алик нее был круглый отличник.
Отец его, военврач подполковник Овсеев, в дела юноши-сына почти не вникал: у него было полно своих хлопот. Зато мать, уже немолодая и очень добрая женщина, обхаживала своего единственного за пятерых отцов и пятерых матерей. С детства она находила в Алике множество различных и необычайных способностей. Стоило малышу, балуясь, тронуть клавиши пианино, как мать тут же восторгалась и бежала к отцу, соседям, знакомым, говорила: «Это же чудо-ребенок, он уже взял аккорд! О, он будет композитором». Если Алик, послюнив карандаш, выводил на бумаге какие-нибудь каракули, мать подхватывала листок и бежала показывать другим. Если он, случалось, обижал малышей во дворе и на него жаловались соседки, она, закрыв двери, одобряла: «Молодчина, сынок. Не разрешай брать верх над собой».
Когда Алик подрос, он пошел в музыкальную школу, неплохо проучился там два года, но потом бросил. Мать очень переживала. Удивлялись преподаватели, почему он, такой способный к музыке, вдруг потерял к ней охоту. Овсеев никому ничего не объяснял, но сам знал определенно, что поступил правильно. «Лучше быть первым в Галлии, чем вторым в Риме», — вычитал некогда Алик и понял, что в музыкальной школе ему никогда не быть первым. Первой там была Нина Машкова, а на второе место для себя Алик не мог согласиться.
Через месяц Овсеев записался в студию изобразительных искусств, купил альбом, медовые акварельные краски и всю зиму писал натюрморты. Алику казалось, что его рисунки не хуже работ других студийцев, но преподаватель Леонид Евгеньевич, старичок в поношенной толстовке, иногда, остановившись у его мольберта, теребил узенькую бородку и непонятно почему спрашивал:
— Вам, Овсеев, спорт нравится?
— Нравится, — быстро поворачиваясь к нему, говорил Алик, и учитель согласно кивал головой.
— Правильно, футбол, например, чудесное занятие для юноши.
Сперва Овсеев не понимал, а потом догадался о смысле тех туманных намеков и перестал посещать студию. Как раз начиналась весна, пригревало солнце, на детском стадионе до поздней ночи бухали мячи — и Алик Овсеев отдался спорту.