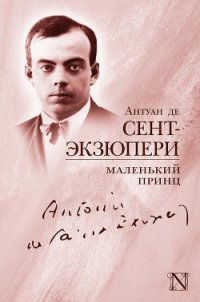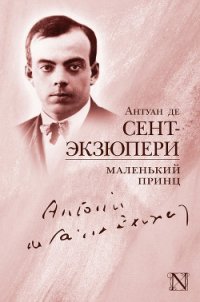Южный почтовый - де Сент-Экзюпери Антуан (книга бесплатный формат txt) 📗
VII
Женевьева не решается потрогать занавеску, кресло, хоть украдкой прикоснуться к ним, боясь внезапно обнаружить, что она в клетке. До сих пор все ее легкие прикосновения к этим вещам были лишь игрой. До сих пор вся эта декорация могла появиться по ее желанию и в любую минуту исчезнуть, как в театре. Она, обладавшая таким безупречным вкусом, никогда не задавалась вопросом, чего стоит этот персидский ковер, эта набойка из Жуй. До сих пор они были всего лишь образом дома, столь милым для нее, теперь же они будут сопутствовать ее собственной жизни.
«Ничего, – думала Женевьева, – я еще чужая в этой жизни, она еще не стала моей». И она усаживалась поглубже в кресло и закрывала глаза. Как в купе экспресса. Каждая прожитая минута отбрасывает назад дома, леса, деревни. А когда, лежа на полке, открываешь глаза, видишь все то же неизменное медное кольцо. А ты, сам того не ведая, подвергся какому-то превращению. «Через неделю я раскрою глаза и буду уже другой: он увезет меня».
– Как вам нравится наш дом?
Зачем будить ее так рано? Она осматривается. Ей трудно выразить свои чувства: эта декорация слишком эфемерна. Ее остов не прочен…
– Жак, подойди ко мне, ты-то ведь настоящий…
В комнате полумрак, вдоль стен низкие тахты, обстановка холостяцкой квартиры. На стенах марокканские ткани. Все это развешивается за пять минут и так же быстро может быть убрано.
– Жак, почему вы прячете стены, почему вы не даете их погладить?..
Она любит ласкать рукой камень, гладить в доме самые прочные и долговечные вещи. Те, что могут вас долго куда-то везти, как корабль…
Он показывает ей свои сокровища: «сувениры»…
Она понимает. Она была знакома с офицерами из колониальных войск, которые, приезжая в Париж, вели призрачную жизнь пришельцев из иного мира. Встречаясь на бульварах, они сами едва верили тому, что они живые. Их квартиры были более или менее точной копией их домов в Сайгоне или в Марракеше. Здесь велись разговоры о женщинах, о товарищах, о карьере; но все эти драпировки, которые там, может быть, составляли самую плоть стен, тут были мертвы.
Она перебирала в руках медные филигранные вещицы.
– Вам не нравятся мои безделушки?
– Простите меня, Жак… Они немного…
Она не решалась сказать «вульгарны». Уверенность в непогрешимости собственного вкуса, приобретенная благодаря тому, что она знала и ценила только подлинного Сезанна, а не копии, только настоящую стильную мебель, а не имитацию, рождала в ней невольное пренебрежение ко всему поддельному. Она со всем великодушием готова была пойти на любые лишения; ей казалось, что она согласилась бы жить в беленной известью каморке, но здесь что-то оскорбляло собственное ее достоинство. Здесь в ней страдал не избалованный роскошью ребенок, но, как это ни странно, страдала ее правдивость. Он угадал, что ей не по себе, не понимая причины ее состояния.
– Женевьева, я не могу окружить вас прежним комфортом, я не…
– Жак! Вы с ума сошли! Что вам пришло в голову! Мне это так безразлично. – И она прижималась к нему. – Просто всем вашим коврам я предпочитаю простой, хорошо натертый паркет… Я займусь этим…
И она замолкла, вдруг сообразив, что простота, к которой она стремилась, была куда большей роскошью и стоила много дороже, чем вся эта мишура. Вестибюль, где она играла в детстве, блестящие ореховые паркеты, массивные столы, служившие века, не выходя из моды и не изнашиваясь…
Ее охватила странная печаль: нет, не сожаление об утраченном богатстве, о всех тех вещах, которыми богатство окружает человека, – ей, конечно, еще в меньшей степени, чем Жаку, были ведомы излишества, – но теперь она ясно поняла, что именно излишества составят ее богатство в новой жизни. А она в них не нуждалась. Но зато веры в долговечность – вот чего в ее жизни больше не будет. Она подумала: «До сих пор вещи оказывались долговечнее меня. Они встретили мое появление на свет, они сопутствовали мне в жизни, и я могла быть уверена, что они окружат меня заботой под старость; а теперь мне придется пережить вещи».
Она продолжает вспоминать: «Когда я уезжала в деревню…» И сквозь густую листву лип она снова видит тот дом. Из всего видимого в мире он был вещью самой прочной: его подъезд из каменных плит, словно выраставший из земли.
О, там… И она вспоминает зиму. Зима убирает в лесу каждую сухую ветку и обнажает каждую линию дома. И перед тобой самый костяк вселенной.
Женевьева выбегает и свистит собак. Под ее ногами хрустят листья, но она знает, что после всей уборки, которую проделала зима, после всей этой капитальной чистки, весна снова затянет нитями пустой уток, поднимется по ветвям и распустится в почках, заново возведет зеленые своды, таинственные и непрестанно колышущиеся, как морские глубины.
Там ее сынишка не исчез бесследно. Она спустилась в кладовую, чтобы передвинуть дозревающие фиги, а он только что ускользнул отсюда; нарезвившись и наигравшись, малыш послушно отправился спать.
Там ей ведом символ смерти, и она не страшится его. Просто каждый соединяется в своем молчании с молчанием дома. Ты поднимаешь глаза от книги, удерживаешь вздох, и ты слышишь зов, который только что отзвучал.
Они исчезли? Ведь среди всего, подверженного превращениям, только они одни и остаются неизменны, ведь их лицо, которое видел в последний раз, было таким подлинным, что в нем ничто и никогда не обманет!
«А теперь я пойду за этим человеком, и я буду страдать и сомневаться в нем!» Потому что весь клубок человеческой нежности и обид она сумела распутать только в них, в мертвых, которых уже не раздирают противоречия.
Она открывает глаза. Бернис задумался.
– Жак, будь мне защитой, я ухожу нищей, такой нищей!
Она готова примириться и с домом в Дакаре, и с толпой в Буэнос-Айресе – со всем тем миром, где все будет спектаклем, ненужным и призрачным, лишь бы сам Бернис: был достаточно сильным, лишь бы он не оказался книжным героем….
Но он склоняется и ласково заговаривает с ней. И она так хотела бы поверить этому его образу, этой нездешней его нежности. О, она так готова полюбить самый образ любви: у нее нет иной защиты, кроме этого бледного образа…
Сегодня ночью, в любовных ласках она найдет его слабое плечо, это ненадежное убежище, и, как зверек, уткнется в него головой, чтобы умереть.
VIII
– Куда вы меня везете? Зачем вы меня завезли сюда?
– Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Вы хотите отсюда уехать?
– Да, уедем, – говорит она с ужасом.
Фары плохо освещали дорогу. Они с трудом углублялись во мрак, как в провал. Бернис то и дело посматривал на Женевьеву – она была бледна как полотно.
– Вам холодно?
– Немножко, пустяки. Я забыла взять мех.
Она была легкомысленной девчонкой. Она улыбнулась.
Потом пошел дождь. «Чертова слякоть!» – выругался Жак. И тут же подумал, что таковы подступы к земному раю.
Под Сансом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарик: еще одна оплошность. Впотьмах, под дождем он тыкал наугад непослушным ключом. «Надо было ехать поездом», – упрямо твердил он про себя. Он предпочел машину, потому что она давала иллюзию свободы; хорошенькая свобода! К тому же с самого начала их бегства он делал одни только глупости. А сколько забытых вещей!
– Ну как, наладил?
Женевьева вышла из машины и стала рядом с ним. Она внезапно почувствовала себя узницей: деревья, одно за другим, выстроились, как конвойные, и эта дурацкая сторожка дорожного мастера. Боже, какая глупая мысль… Да разве она думала поселиться здесь навсегда?
Все было готово, он взял ее руку:
– У вас жар! Она улыбнулась…
– Да… Я немного устала, я бы хотела заснуть.
– Так зачем же вы вышли под дождь? Мотор тянул с перебоями и дребезжал.
– Жак, милый, когда же мы доедем? – Она уже дремала, усыпляемая жаром. – Когда мы доедем?
– Скоро, любимая, скоро будет Санс.