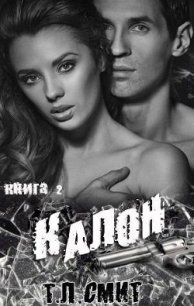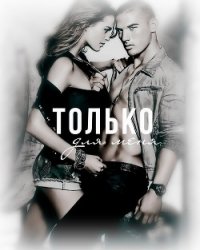Чудная планета (Рассказы) - Демидов Георгий (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
В чем же культура-то эта состояла? А вот в следующей же фразе и разъяснено: «В основе ужесточения давления на целые группы населения в середине 30-х гг. лежало представление большевистских руководителей о допустимости превентивной (упреждающей, устрашающей, призванной парализовать волю к сопротивлению) репрессии. Превентивная репрессия рассматривалась как средство подавления не только отдельных личностей, но и целых социальных групп, чьи интересы были чужды принципам советской власти и могли оказать ей активное противодействие».
У дедушки Крылова про эту политическую культуру (красивое, ободряющее выражение) было сказано давно и много короче: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»
Результат же «превентивной репрессии» — заметим: тоже красиво и деликатно звучит (не то что, скажем, «зверства» или «кровавая мясорубка» — что напрашивается при чтении Демидова) — выглядит уже не только красиво, а даже пафосно: «В 1930-е годы советскому народу удалось совершить подлинный исторический подвиг. Страна осуществила мощный рывок в развитии, качественно преобразился ее социально-экономический и культурный облик, изменилось место в мире… Сочетая принуждение и моральные стимулы, используя страх и энтузиазм, созданная вертикаль управления…» (вот она когда завелась, спасительная вертикаль!..) «…в целом решила те задачи, которые встали перед страной в конце 20-х годов».
А Сталин — что ж: «…Важно показать (подросткам, правнукам закопанных. — М. Ч.), что Сталин действовал (как управленец) вполне рационально — как охранитель системы, как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное государство…»
«…„Большой террор“ прекратился сразу, как только Сталину стало ясно, что монолитная модель общества реализована. Это произошло к лету 1938 года».
Почему-то, правда, это прекращение осталось не замеченным ни Демидовым, ни его героями — они продолжали вкалывать и умирать в лагерях. Ну, это уж факт их злосчастных биографий. Вот и рисует писатель послевоенные картинки отстраивания новых и новых лагерей — «каркасно-засыпного» типа, когда между горбылями обшивки «пустота засыпается опилками», а стены, «чтоб из них не выдуло опилки ветром, густо обмазываются с обеих сторон глиной». Вот вам и монолит преобразованной в индустриальное государство страны. «Но вот что озадачило строителей. В подслеповатые оконца (этих бараков) им было приказано встраивать толстенные решетки, а на двери навешивать снаружи тяжелые амбарные запоры. Это было бы смешно — стену такого барака можно было разломать в любом месте с помощью обыкновенного кола или кочерги, — если бы люди не понимали, что назначение этих решеток и запоров вовсе не в том, чтобы укрепить барак. Оно заключалось, несомненно, в угнетающем действии на его будущих жителей. <…>
Но самое тягостное впечатление произвели на строителей нового лагеря невысокие, но довольно широкие отверстия, которые плотникам велено было проделать на уровне пола в стенах „скворечников“ — будок для часовых, поднятых на толстых ногах-раскоряках. Отверстия были обращены внутрь зоны и закрывались откидывающимися на петлях деревянными щитами. Не сразу догадались, что это амбразуры для станковых пулеметов. Если такие пулеметы установить только на двух угловых вышках, то в лагере не останется ни одного угла, в котором можно было бы укрыться от их огня. Лагерные бараки не представляли от пуль почти никакой защиты».
Все это делалось, конечно, для блага страны. Для выстраивания сегодняшней монолитной модели общества автором-историком приготовлено такое объяснение прошлых событий: «С приходом к руководству НКВД Л. П. Берия, пусть и не в прежних масштабах, террор был поставлен на службу задачам индустриального развития: по разнарядкам НКВД обеспечивались плановые аресты инженеров и специалистов, необходимых (подчеркнем это слово — надо же со школьных лет понимать, что такое государственная необходимость! — М. Ч.) для решения оборонных и иных задач на Дальнем Востоке, в Сибири. Террор превращался в прагматичный инструмент решения народнохозяйственных задач. Оправдания и объяснения этому, конечно, нет. (Это — не более, чем отговорка: ясно видим и оправдания, и объяснения. — М. Ч.). Однако репрессии выполняли и функцию устрашения для тех, кто нерадиво работал».
Выделенное нами «однако» здесь самое значимое, пожалуй, слово. В томе Демидова едва ли не на каждой странице видит читатель, как поступают в Стране Советов с теми гражданами, кто проявляет нерадивость на ветру при пятидесятиградусном морозе в полураздетом виде.
Вы поняли теперь, зачем и почему они все умерли, герои Демидова — и редкостной красоты и силы тенор, и оперное сопрано, и прекрасный художник, и народные артисты, и ученые, зачем был загублен талант изобретателя Демидова? Чтобы решать задачи и совершать мощный рывок. Это всё сообщается нам сегодня в федеральном масштабе, чтоб они, закопанные без гробов с биркой на большом пальце ноги, могли спать в своей вечной мерзлоте спокойно.
Приходится констатировать: вбить спасительный осиновый кол — единственное, что, по народным поверьям, гарантирует от восставания упыря из могилы, — пока не удалось.
Но автора сегодняшней концепции российской истории XX века для школьников, как и его единомышленников, я присудила бы к прочтению (под страхом тюрьмы!) от первой до последней страницы тома сочинений Георгия Демидова. Если же и это чтение не поможет ни ему, ни миллионам сограждан, заново поверившим в мудрость Сталина и правильность советской власти, — тогда уж и не знаю. Придется, пожалуй, признать, что болезнь неизлечима.
Но все же не хочется заканчивать разговор о Демидове мрачноватым прогнозом. Сам он, мнится мне, вряд ли бы это одобрил. Сантиментов у Демидова не найти; он умел жестко писать даже о красотах природы: «Выше — чистое бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становилось светло-синим. Только здесь, в этих неприютных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку».
В той литературе, в которую он не вступил в 60-е годы — годы его самого напряженного, пожалуй, творчества, — философия и не ночевала. Самое большее, что можно было в ней встретить, — тривиальное философствование. И любое, самое скромное внимание какого-либо автора тех лет к проблемам бытия заставляло критиков с ходу объявлять сочинение «философским».
Но те мысли «о противостоянии живой и мертвой материи», которые охватывают героя «Дубаря», только что похоронившего в мерзлой земле ребенка, не прожившего в лагере и нескольких часов, — они прямым образом прикосновенны к высокой философии. Крест, сооруженный «убежденным атеистом» из подручных средств над могилой безымянного и не принадлежавшего ни к какой религии ребенка, не был «логически» оправдан и «не был также просто сентиментальной данью традиции, знакомой с далекого детства». И «милосердие смерти в этом случае было слишком очевидно», чтобы проливать слезы. А между тем герой рассказа охвачен тем состоянием «возвышенного и умиленного экстаза, которое знакомо по-настоящему только искренне верующим людям». Он пытается определить это «высокое чувство» — и находит, что ближе всего оно, заставшее его посреди снегов, невдалеке от «замерзшего моря, до самого горизонта покрытого торосами», — «к чувству благодарности».
…Нам ли, русским читателям, не вспомнить после этих слов строки Пастернака?..
И с Варламом Шаламовым почти в том же самом году, когда был написан «Дубарь», Георгия Демидова разделила — вполне в русском духе! — в конечном счете разнота философская — при общем жизненном опыте, что для нас, их читателей и почитателей, важно и поучительно.