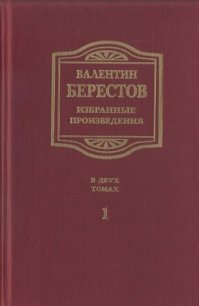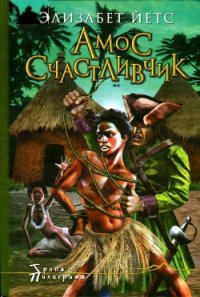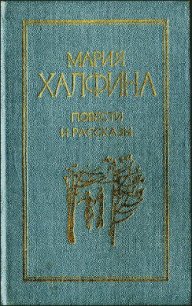Люди на перепутье - Пуйманова Мария (библиотека электронных книг .TXT) 📗
Больше никогда ей не придется лежать рядом с маленьким сопящим мужем. И это хорошо. Но как можно, как можно предпочесть ей, Власте Тихой, кого-нибудь другого, — этого ей никогда в жизни не понять! А квартира у нее будет прекрасная, солнечная, две комнаты с окнами на юг, и чтобы напротив не торчало никакого здания, квартира с видом на парк или на реку, с большими окнами, как в вагоне-ресторане. Теперь много свободных квартир. Буду опять скромной, буду опять молодой, на сплетни наплюю. Праге скажу: «Цыц, здесь командую я!» А когда-нибудь, после рукоплесканий, которые обрушиваются с потолка, как свежий ливень, который мы пьем всеми фибрами своего существа, — ведь и мы труженики, не знающие покоя, — когда-нибудь, после премьеры, в каком-то другом, четвертом измерении, начнется новая жизнь. Со мной будут молодые, хорошие, простые, красивые люди, мы вместе станем лагерем среди благодатной природы, будем печь ворованную картошку и петь у костра, и я начну жить заново!
Власта села в такси, и с ней был волшебный рог изобилия, и с ней был карманный ковер-самолет, которые уже не раз спасали ее от жизненных катастроф для того, чтобы все трагедии и катастрофы она переживала только там, где нужно, — на сцене. И когда портье уже вручал ей ключ от номера, она вдруг, в вестибюле отеля, нашла нужную интонацию фразы: «Вы не спали, господин Эрленд?», над которой долго думала сегодня в «магорке». Конечно, она не попробовала ее вслух, тут же при лифтере. Но теперь интонация уже была найдена.
Ондржей был очень недоволен своим пребыванием в Праге. Корыстное обручение красавицы сестры с пожилым человеком возмущало его, а в унизительной радости матери он видел нечто похожее на сводничество. Близким прощать труднее, чем чужим. Выхоленная Ружена, такая неподходящая к пропахшей цикорием кухоньке, вела себя дома как гостья, которая не сегодня-завтра должна уехать. О Хойзлере она не говорила, а распоряжалась им: Густав устроит, Густав отвезет меня. Словно речь шла о шофере. Она держалась с превосходством женщины, знающей что делает и не нуждающейся ни в чьем совете. С братом она обращалась, как с примерным мальчиком, которому взрослые благоволят свысока, думая про себя: «Что ты понимаешь?» К Ондржею вернулось давнее ощущение детских лет: он во власти женщин.
Как-то Хойзлер пригласил Ондржея по-дружески поужинать с ним. Ружена передала приглашение брату. Первой мыслью Ондржея было избежать знакомства с адвокатом. Однако, пересилив себя, он пообещал прийти. Но в последний момент все же снова попытался уклониться.
— Послушай, а нельзя ли увидеться в другом месте? Зачем ему кормить меня? Давайте лучше встретимся завтра на солнышке в парке.
Ружена рассмеялась и сказала, что Густав не студент и не пенсионер. Приходи и не стесняйся. Ондржей удивился: «Я? А чего мне стесняться?»
«Может быть, он не так уж и плох, может быть, я не рассмотрел его тогда, Первого мая?»— думал Ондржей, но, увидев жениха, вздохнул. Паккард был хорош, это верно, но какой прок от паккарда, если из него вышел толстяк петрушка, которого Ондржей видел в улецком танцевальном павильоне. Толстяк снял шляпу, обнажил лысину и приветливо осклабился. Вблизи это был рыхлый маленький человек, с мешками под выпученными, рачьими глазами, заставлявший себя держаться прямо, чтобы скрыть брюшко, один из тех пожилых мужчин, которые курят сигары и не водят сами машину. В глазах жителей Ул, где юноши уже в пятнадцать лет сидят за рулем и гоняют как черти, это особенно подчеркивало слабость и старость владельца паккарда.
По желанию Ружены они поехали во французский ресторан Ванека, вход в который находился под землей. Как и салон Хорста, ресторан был меблирован в стиле какого-то Людовика. Там вы тотчас же погружались в невеселую атмосферу избранности и особого ритуала, свойственную всем первоклассным заведениям подобного рода. На каждом столике стояла отдельная лампа в цветном абажуре, напоминавшая о спальне, и в зале было очень торжественно и пусто. Кризис, кризис? Шеренга безмолвных кельнеров была многочисленнее и элегантнее посетителей. Их строгий вид внушал Ондржею страх, будто это не были одетые во фраки парни с Жижкова и Нуслей, такие же, как он. Но Ондржей был под защитой Хойзлера, а тот держался здесь, как в собственной вотчине. Усталыми глазами навыкате он приветливо и серьезно посмотрел через стол на Ондржея и спросил гостя, есть ли у него особые желания или он позволит Хойзлеру заказать ужин. Ондржей очень живо представил себе, как он и Лидка, переминаясь с ноги на ногу, стоя едят сосиски в улецкой рабочей столовой, и мысленно со смехом рассказывал Лидке о сегодняшнем вечере!
— Да, да, заказывайте, — просто ответил он Хойзлеру, и в его голосе была интонация молодого рабочего, какая часто слышится на улицах, в казармах и на железной дороге. — Только, пожалуйста, не рыбу.
По лицу Ружены было заметно, что ей что-то не понравилось. Выхоленной рукой, украшенной перстнем, она коснулась рукава Хойзлера.
— Густав, — сказала она мягко, как бы желая что-то исправить, — для меня устрицы.
— Отлично, — оживился Хойзлер, и, повернувшись к непроницаемому кельнеру, стоявшему рядом, как изваяние, адвокат перечислил блюда и вина с такой обдуманной твердостью, с какой Хозяин руководит Улами. Было ясно, что с едой здесь не шутят, что еда — это важная обязанность в жизни, выполняя которую люди должны с уважением относиться к самим себе.
С интересом человека физического труда и любопытством мальчика, который отцовским ножом колол орехи, Ондржей смотрел, как ловко человек в белом фартуке острым ножом вскрывает крепко сжатые раковины устриц. Хойзлер серьезно наблюдал за этой работой. Сильны чертовы устрицы, держатся изнутри, как сжатый кулак! Человек в белом фартуке знал то место раковины, куда надо воткнуть нож и повернуть, чтобы раковина раскрылась. Каждую половину он брал щипчиками и клал ее на блюдо. Половинки раковин, в которых виднелась студенистая слизь, отливали перламутром и пахли морем. Человек в белом фартуке ушел, кельнер, стараясь не шуметь толченым льдом, вынул из ведерка бутыль, откупорил ее и, обернув салфеткой, отлил чуточку в отдельный, никому не предназначенный бокал, потом разлил вино в зеленые бокалы и отошел в сторону.
Пожилой человек и девушка ели. Пожилой человек смотрел на ее рот, на движения крепких, гибких, хорошо накрашенных губ, а она говорила любезным и высоким голосом — для клиентов — и улыбалась, показывая молодые влажные зубы. На столе горела лампа под абажуром, напоминающая о спальне. Кельнер, каждую минуту готовый отозваться на вызов, стоял в стороне с таким тактично безучастным видом, словно его гости распутничали, а он как образцовый лакей не замечал этого.
Слизняки, которых Хойзлер и Ружена ели сырыми, возможно, были еще живы. Ондржей не отваживался даже смотреть на них, но Ружена (она еще в сочельник в Нехлебах храбро разжевала устрицу, поощряемая тогда другим пожилым мужчиной, дядей Франтишеком), выжав на устрицу лимон, проглотила этого противного слизняка. Потом она поднесла к губам бокал с вином, чтобы запить, но вдруг нахмурилась и как бы прислушалась.
— Больше я сюда не хожу, — сказала она, ставя бокал на стол. — Сегодня я у Ванека в последний раз.
— Что такое, дорогая?
— Шабли недостаточно охлаждено, — обиженно сказала Ружена.
— Ты думаешь? — без особой уверенности осведомился Хойзлер, но Ружена только молча посмотрела на него.
Хойзлер кивнул кельнеру, тот подошел, адвокат тихо пробормотал несколько слов, указывая на вино, кельнер убрал бокалы и принес другую бутылку в ведерке. Вслед за ним появился человек с серьезным лицом, щелкнул перед Хойзлером каблуками, принес извинения и просил передать их даме. Ружена слегка кивнула.
«Ах, черт тебя побери! — мысленно выругался Ондржей. — Если ты ломаешься перед этим петрушкой, то так ему и надо, он сам тебя к этому приучил. Но передо мной! Смотрите-ка, босоногая Руженка с косичкой ломается передо мной!»
— Надеюсь, ты не скучаешь, мальчик? — с деланной сердечностью спросила Ружена и погладила Ондржея по руке, как будто он не был ее братом. Дома у них не приняты были такие нежности. Ондржей убрал руку. — Что же ты не пьешь, глупышка? — продолжала она. — Какие еще есть радости на свете, кроме стаканчика вина? Вино божественно! Густав, skol! — Она подняла бокал.