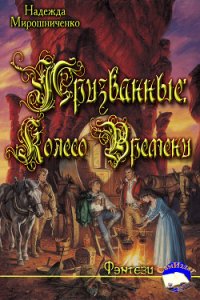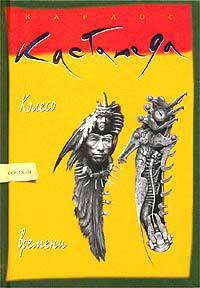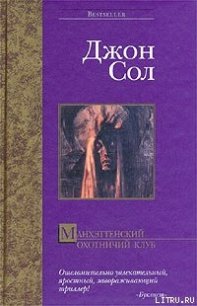Париж интимный (сборник) - Куприн Александр Иванович (читать книги онлайн txt) 📗
Но генерал Л. и не думал гневаться. Наоборот, он взял Копылова за затылок, притянул к себе и поцеловал в лоб.
– Спасибо, станичник, – сказал он. – Благодарю тебя за смекалку и находчивость. Представлю тебя к чину хорунжего и к ордену Святой Анны. Подождем большого боя – нацеплю тебе на грудь Георгия.
В этот день генерал Л. пригласил Тулубеева к вечернему чаю. Уже стало смеркаться, и отдаленная канонада затихала. Л., долго молчавший до этой поры, вдруг медленно, точно с укоризной, покачал головой и сказал:
– Вот видели мы с вами нынче казака Копылова. Хорош? Не правда ли?
– На что лучше, ваше высокопревосходительство.
– Да вы оставьте этот хвостатый титул хоть на время простой дружеской беседы. Помилуйте, целых одиннадцать слогов! Стоя уснешь, пока их выговоришь. Есть у меня имя, данное мне при святом крещении, да еще отчество в память моего батюшки, человека совсем незнатного, но честного, правдивого и к тому же разумного патриота. Вот по ним меня и зовите. А о Копылове я потому говорил, что очень много о нем нынче думал, и не о нем одном, а обо всей русской армии и обо всем православном русском народе. Копылов, он и ловок, и догадлив, и находчив. Но ведь он – казак, а все казаки по природе – урванцы и ухорезы, к тому же прочные вольные собственники и прирожденные наездники. Но долгий опыт и внимательное наблюдение привели меня к твердому убеждению в том, что из корявой и гунявой массы мужиков-хлеборобов можно вырастить и воспитать армию, какой никогда не было и никогда не будет в мире. И это придет! Однако не скоро... Ни я, ни вы, ни наши правнуки до этого торжества России не доживем. Теперь же – что поделаешь? – будем заштопывать дыры, наделанные правящим классом и подхалимством теоретиков.
А теперь несколько слов о вашем, так страстно мечтаемом рейде. Да, мысль соблазнительная, героическая и при удаче дающая великолепные результаты. Вы думаете, я не бредил рейдом? Да еще как! С самого начала войны я настаивал на том, чтобы перенести ее в Германию, сделав, таким образом, наше положение из оборонительного наступательным и взяв, таким образом, инициативу боев в свои руки, как это делали великие русские победители в прошедшие века. В драке побеждает тот, кто первый оглушил противника сильным ударом. Это – закон. Я уже готовился броситься в отчаянный рейд со всей моей окраинной армией. У меня была нехватка в кавалерийском составе, но я посадил бы верхом на крестьянских лошадей моих непобедимых пехотинцев. Аллах акбар, как говорят мусульманские воины. Пускай бы все мы погибли до единого, но до той поры мы навели бы ужас на всю Германию своей дьявольской дерзостью и беспощадностью. А вести о наших победах стали бы чудесным доппингом для русской армии и для русского народа... Но ведь вы понимаете, Тулубеев, какою огромной, безграничной властью должен обладать начальник такой сверхчеловеческой экспедиции и какую абсолютную веру должен питать к нему самый ничтожный солдатишка. Но, увы, друг мой, героические планы и вдохновенные бои отошли в область преданий. Теперь масса давит массу, теперь шпионаж и телефон решают исход сражения. Мой рейд, прекрасно обдуманный и точно подготовленный, был вдребезги скомкан и разбит великими стратегами генерального штаба, заседающими в Петрограде и никогда не видавшими войны даже издали. Они, видите ли, закаркали, как вороны: «Будет! Достаточно! Видели мы рейд генерала Ренненкампфа! Довольно нам этих доморощенных рейдов некомпетентных храбрецов...» Я еще в японскую войну громко настаивал на том, что нельзя руководить боями, сидя за тысячу верст в кабинете; что нелепо посылать на самые ответственные посты, по протекции, старых генералов, у которых песок сыпется и нет никакого военного опыта; что присутствие на войне особ императорской фамилии и самого государя ни к чему доброму не поведет. Я говорил еще, что победу, трофеи и триумф мы радостно повергнем к стопам обожаемого монарха и его высочайшей семьи, но всю черную работу дайте нам, серым солдатам... Руки у нас мозолистые, и умирать мы – мастера... Так ведь нет же! Яман, как говорят татары.
Помолчав немного, генерал Л. сказал глухим голосом:
– А главное-то ваше горе, славный кавалерист Тулубеев, заключается в том, что при нынешнем ходе войны рейд уже становится невозможным и немыслимым. Я скажу даже больше: всего через месяц, через два кавалерия начнет быстро уходить, исчезать, обращаться в пепел и в прекрасное героическое рыцарское воспоминание. Нет для нее ни размаха, ни места, ни задач. Подлая теперь пошла война, а в будущем станет и еще подлее.
Уже теперь пропал пафос войны, пропала ее поэзия и прелесть, и никогда уже не родится поэт, возвеличивающий войну, как возвеличил ее Пушкин в своей «Полтаве». Мы с вами, Тулубеев, последние рыцари.
И генерал Л. был пророчески прав. Вскоре кавалерия стала не нужна и совсем бесполезна. Самые блестящие кавалеристы переходили в пехотные армейские полки и дрались в их рядах мужественно и самоотверженно, погибая, как скромные, послушные герои. В одном из этих полков погиб и Тулубеев, смертельно раненный в блиндаже при разрыве тяжелой бомбы.
Он умирал в страшных мучениях. Полковой скромный попик едва успел его пособоровать, последние, едва слышные слова его были: «Батюшка, помолитесь за Россию и за славного генерала Л.».
Царский писарь
I
Знакомство мое с Кузьмой Ефимычем относится к тому бесконечно далекому времени, когда при устье Невы стоял не Петроград, а Петербург, когда прохожие не падали в обморок от полуденной пушки, когда извозчик от Николаевского вокзала до Новой деревни рядился не за два с полтиной, а ехал за восемь гривен, когда малая французская булка с хрустящей корочкой стоила три копейки, а десяток папирос «Мечты» – шесть, когда монументальный постовой городовой был кумом, сватом и желанным гостем на пироге с вязигой у всех своих кротких подданных, когда в субботу вечером, встретясь с другом на улице, никто не стыдился признаться, что он идет от всенощной в баньку, когда арестанты в серых халатах чинили под надзором добродушных солдат мостовые, а не заседали в Конвенте и когда на Сенатской площади еще высился свергнутый впоследствии бронзовый конь, вздыбившийся под своим прекрасным и гордым всадником.