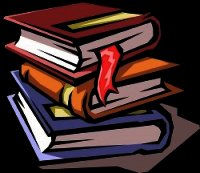В круге первом (т.2) - Солженицын Александр Исаевич (читаем книги бесплатно TXT) 📗
Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещён в тесном ослепительном жарком боксе № 8 — и терзался оттого, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном неприютном безномерном боксе — и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверьми будет раздражать, а недостаток света — угнетать. Как здесь необходимо окно! — хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях тюремных подвалов — но и его не было.
Из эмигрантских мемуаров нельзя было себе этого представить: коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снует в разгаре ночи Большая Лубянка, но нигде больше нет ни одного арестанта, нельзя встретить себе подобного, нельзя услышать неслужебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что всё огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято.
Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупее, поддерживающее весь разветвлённый многотысячный аппарат.
Мысли Иннокентия приняли страдательное направление. Его телефонный звонок казался ему уже не великим поступком, который будет вписан во все истории XX века, а необдуманным и главное бесцельным самоубийством. Он так и слышал надменно-небрежный голос американского атташе, его нечистое произношение: «А кто такой ей?» Дурак, дурак! Он, наверно, и послу не доложил. И всё — впустую. О, каких дураков выращивает сытость!
Теперь было где походить по боксу, но у истомлённого, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошёлся раза два, сел на лавку и плетьми опустил руки мимо ног.
Сколько великих беззвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы!
Проклятая, проклятая страна! Всё горькое, что глотает она, оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя!..
Счастливая какая-нибудь Австралия! — забралась к чёрту на кулижки и живёт себе без бомбёжек, без пятилеток, без дисциплины.
И зачем он погнался за атомными ворами? — уехал бы в Австралию и остался бы там частным лицом!..
Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетал бы в Париж, а там в Нью-Йорк!..
И когда он представил себе не поездку за границу вообще, а именно в эти наступающие сутки — у него перехватило дух от недостижимости свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтоб дать выход досаде!..
Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери. Снова проверили его «установочные данные», на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти «с вещами». Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел выйти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину.
Опять защёлкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было — запоминать, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нём свершился такой передвиг, что шёл он в бесчувствии и не заметил, на много ли они спустились — как вдруг из какого-то ещё коридора навстречу им показался другой рослый надзиратель, так же напряжённо щёлкающий, как и тот, что шёл перед Иннокентием. Надзиратель, ведший Иннокентия, порывисто отворил дверь зелёной фанерной будки, загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил за собою дверцу. Внутри было только-только где стать, и шёл рассеянный свет с потолка: будка, оказалось, не имела крыши, и туда попадал свет лестничной клетки.
Естественным человеческим порывом было бы — громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая к непонятным передрягам и втягиваясь в лубянскую молчанку, был безмолвно покорен, то есть, делал то самое, что и требовалось тюрьме.
Ах, вот отчего, наверно, все на Лубянке щёлкали: этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом! Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки!..
Того, другого, провели — Иннокентия выпустили из будки и повели дальше.
И здесь-то, на ступенях последнего пройденного им марша, Иннокентий заметил: как были стёрты ступени! — ничего похожего нигде за всю жизнь он не видел. От краёв к середине они были вытерты овальными ямами на половину толщины.
Он содрогнулся: за тридцать лет сколько ног! сколько раз! должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень! И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой — арестант.
На площадке этажа была запертая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла ещё новая участь — быть поставленным лицом к стене. Всё же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка. Затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, не видимый Иннокентию, стал его спрашивать:
— Фамилия?
Иннокентий естественно оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре, — и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомясое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица — золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия:
— Не оборачиваться! — и продолжал всё те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой.
Убедясь, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомясый лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиг, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами отперли дверь.
— Пройдите! — резко сказал мягкомясый красно-обваренный лейтенант.
Они вступили внутрь — и дверь за ними громкими поворотами заперлась.
Иннокентий едва успел увидеть расходящийся натрое — вперёд, вправо и влево, сумрачный коридор со многими дверьми и слева у входа — стол, шкафчик с гнёздами и ещё новых надзирателей, — как лейтенант негромко, но явственно скомандовал ему в тишине:
— Лицом к стене! Не двигаться!
Глупейшее состояние — близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на своём затылке несколько пар враждебных глаз.
Очевидно, разбирались с его карточкой, потом лейтенант скомандовал почти шёпотом, ясным в глубокой тишине:
— В третий бокс!
От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошёл по полстяной дорожке правого коридора.
— Руки назад. Пройдите! — очень тихо обронил он. По одну сторону их хода тянулась та же равнодушная оливковая стена в три поворота, с другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалики номеров:
«47» «48» «49».
а под ними — навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко — друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры, — но надзиратель быстро увлекал вперёд, а главное — Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением, хотя чего ещё можно было бояться человеку, вступившему в борьбу вокруг атомной бомбы?
Несчастным образом для людей и счастливым образом для правительств человек устроен так, что пока он жив, у него всегда есть ещё что отнять. Даже пожизненно-заключённого, лишённого движения, неба, семьи и имущества, можно, например, перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками — и эти мелкие последние наказания так же чувствительны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспеяния. И чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему унизительный тюремный режим, медленно убивающий в нём человека. Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные овалики на них были: