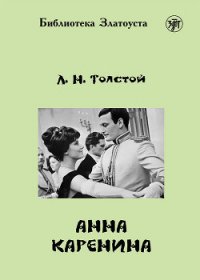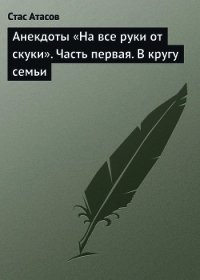Анна Каренина - Толстой Лев Николаевич (книги онлайн полные .TXT) 📗
Теперешнее отношение его к Анне и к ее мужу было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался.
Она была порядочная женщина, подарившая ему свою любовь, и он любил ее, и потому она была для него женщина, достойная такого же и еще большего уважения, чем законная жена. Он дал бы отрубить себе руку прежде, чем позволить себе словом, намеком не только оскорбить ее, но не выказать ей того уважения, на какое только может рассчитывать женщина.
Отношения к обществу тоже были ясны. Все могли знать, подозревать это, но никто не должен был сметь говорить. В противном случае он готов был заставить говоривших молчать и уважать несуществующую честь женщины, которую он любил.
Отношения к мужу были яснее всего. С той минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым. Муж был только излишнее и мешающее лицо. Без сомнения, он был в жалком положении, но что было делать? Одно, на что имел право муж, это было на то, чтобы потребовать удовлетворения с оружием в руках, и на это Вронский был готов с первой минуты.
Но в последнее время явились новые, внутренние отношения между ним и ею, пугавшие Вронского своею неопределенностью. Вчера только она объявила ему, что она беременна. И он почувствовал, что это известие и то, чего она ждала от него, требовало чего-то такого, что не определено вполне кодексом тех правил, которыми он руководствовался в жизни. И действительно, он был взят врасплох, и в первую минуту, когда она объявила о своем положении, сердце его подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это, но теперь, обдумывая, он видел ясно, что лучше было бы обойтись без этого, и вместе с тем, говоря это себе, боялся – не дурно ли это?
«Если я сказал оставить мужа, то это значит соединиться со мной. Готов ли я на это? Как я увезу ее теперь, когда у меня нет денег? Положим, это я мог бы устроить… Но как я увезу ее, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым на это, то есть иметь деньги и выйти в отставку».
И он задумался. Вопрос о том, выйти или не выйти в отставку, привел его к другому, тайному, ему одному известному, едва ли не главному, хотя и затаенному интересу всей его жизни.
Честолюбие была старинная мечта его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью. Первые шаги его в свете и на службе были удачны, но два года тому назад он сделал грубую ошибку. Он, желая выказать свою независимость и подвинуться, отказался от предложенного ему положения, надеясь, что отказ этот придаст ему большую цену; но оказалось, что он был слишком смел, и его оставили; и, волей-неволей сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя, так, как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и желает только того, чтоб его оставили в покое, потому что ему весело. В сущности же ему еще с прошлого года, когда он уехал в Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который все бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. Наделавшая столько шума и обратившая общее внимание связь его с Карениной, придав ему новый блеск, успокоила на время точившего его червя честолюбия, но неделю тому назад этот червь проснулся с новою силой. Его товарищ с детства, одного круга, одного общества и товарищ по корпусу, Серпуховской, одного с ним выпуска, с которым он соперничал и в классе, и в гимнастике, и в шалостях, и в мечтах честолюбия, на днях вернулся из Средней Азии, получив там два чина и отличие, редко даваемое столь молодым генералам.
Как только он приехал в Петербург, заговорили о нем как о вновь поднимающейся звезде первой величины. Ровесник Вронскому и однокашник, он был генерал и ожидал назначения, которое могло иметь влияние на ход государственных дел, а Вронский был хоть и независимый, и блестящий, и любимый прелестною женщиной, но был только ротмистром, которому предоставляли быть независимым сколько ему угодно. «Разумеется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому, но его возвышение показывает мне, что стоит выждать время, и карьера человека, как я, может быть сделана очень скоро. Три года тому назад он был в том же положении, как и я. Выйдя в отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять своего положения. А я, с ее любовью, не могу завидовать Серпуховскому». И, закручивая медленным движением усы, он встал от стола и прошелся по комнате, Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то твердое, спокойное и радостное состояние духа, которое находило на него всегда после уяснения своего положения. Все было, как и после прежних счетов, чисто и ясно. Он побрился, оделся, взял холодную ванну и вышел.
– А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась, – сказал Петрицкий. – Что ж, кончилось?
– Кончилось, – ответил Вронский, улыбаясь одними глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела, всякое слишком смелое и быстрое движение может его разрушить.
– Ты всегда после этого точно из бани, – сказал Петрицкий. Я от Грицки (так они звали полкового командира), тебя ждут.
Вронский, не отвечая, глядел на товарища, думая о другом.
– Да, это у него музыка? – сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов, полек и вальсов. – Что за праздник?
– Серпуховской приехал.
– Аа! – сказал Вронский, – я и не знал.
Улыбка его глаз заблестела еще ярче.
Раз решив сам с собою, что он счастлив своею любовью, пожертвовал ей своим честолюбием, – взяв по крайней мере на себя эту роль, – Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досады на него за то, что он, приехав в полк, пришел не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему.
– А, я очень рад.
Полковой командир Демин занимал большой помещичий дом. Все общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие подле бочонка с водкой, и здоровая веселая фигура полкового командира, окруженного офицерами; выйдя на первую ступень балкона, он, громко перекрикивая музыку, игравшую оффенбаховскую кадриль, что-то приказывал и махал стоявшим в стороне солдатам. Кучка солдат, вахмистр и несколько унтер-офицеров подошли вместе с Вронским к балкону. Вернувшись к столу, полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост: – «За здоровье нашего бывшего товарища и храброго генерала князя Серпуховского. Ура!»
За полковым командиром, с бокалом в руке, улыбаясь, вышел и Серпуховской.
– Ты все молодеешь, Бондаренко, – обратился он к прямо пред ним стоявшему, служившему вторую службу молодцеватому краснощекому вахмистру.
Вронский три года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то тихое, постоянное сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании этого успеха всеми. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском.
Сходя с лестницы, Серпуховской увидал Вронского. Улыбка радости осветила лицо Серпуховского. Он кивнул кверху головой, приподнял бокал, приветствуя Вронского и показывая этим жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя.
– Ну, вот и он! – вскрикнул полковой командир. – А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе.
Серпуховской поцеловал во влажные и свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Вронскому.