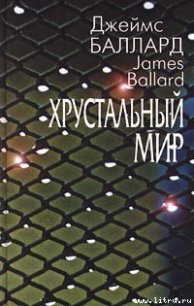Капитан Фракасс - Готье Теофиль (читать книги онлайн бесплатно полные версии TXT) 📗
Актер на ролях забияки и хвастуна был худ, костляв, черен и сух, как висельник летом; кожа у него казалась пергаментом, наклеенным на костяк; огромный нос, похожий на клюв хищной птицы, с горбинкой, блестевшей, точно рог, перегораживал пополам вытянутую физиономию, которую еще удлиняла остроконечная бородка. Из этих двух профилей, склеенных друг с другом, еле-еле получалось лицо, а глаза, чтобы поместиться на нем, были по-китайски скошены к вискам. Подбритые черные брови загибались запятой над бегающими глазами, а непомерно длинные усы, напомаженные на концах, были закручены кверху и грозили небу своими остриями; оттопыренные уши смахивали на ручки горшка и служили мишенью для щелчков и оплеух. Весь этот нелепый облик, скорее похожий на карикатуру, чем на живого человека, казалось, был вырезан каким-то шутником на грифе трехструнной скрипки или срисован с тех диковинных птиц и зверей, которые, на радость обжорам, светятся по вечерам в фонарях перед лавкой пирожника. Ужимки хвастуна и забияки Матамора стали его второй натурой, и, даже сойдя с подмостков, он выступал, расставляя ноги циркулем, задрав голову, подбоченясь одной рукой, а другую положив на эфес шпаги. Наряд его составлял желтый камзол, выгнутый в форме кирасы, отороченный зеленым, с поперечными прорезями на испанский лад; крахмальный, торчащий при помощи проволоки и картона воротник величиной с круглый стол, за которым могли бы пировать все двенадцать паладинов; панталоны, собранные в буфы, белые козловые ботфорты, в которых его петушиные ноги болтались, как флейты в футлярах, когда их уносит странствующий музыкант, и, наконец, гигантская рапира, с которой Матамор не расставался никогда, хотя ее кованый ажурный эфес весил не меньше пятидесяти фунтов; поверх всего этого облачения он для пущей важности драпировался в плащ, край которого задирался от шпаги. Не желая ничего упустить, добавим, что два петушиных пера, разветвленных, как убор рогоносца, презабавно торчали на его серой фетровой шляпе с тульей, вытянутой в виде реторты.
Ремесло писателя уступает ремеслу живописца в том, что он может показывать предметы лишь последовательно. Достаточно было бы беглого взгляда, чтобы охватить картину, в которой художник сгруппировал бы за столом всех обрисованных нами персонажей; там запечатлелись бы все блики света и тени, разнообразные позы с присущим каждой фигуре колоритом, и мельчайшие подробности костюма, недостающие нашему описанию, и без того длинному, как и старались мы сделать его покороче; но нам ведь нужно было познакомить вас с труппой комедиантов, так неожиданно вторгнувшихся в уединенный замок Сигоньяка.
Начало ужина прошло в молчании; большой аппетит, как и большое чувство, всегда безмолвен. Но когда первый, самый лютый голод был утолен, языки развязались. Молодой барон, должно быть, не наедавшийся досыта с тех пор, как его отняли от груди, хоть и желал казаться перед Серафиной и Изабеллой мечтательным и влюбленным, однако поедал, или, вернее, пожирал, все кушанья с величайшей алчностью, – трудно было поверить, что он уже поужинал. Педанта забавляла такая юношеская ненасытность, и он все подкладывал на тарелку хозяина замка крылышки куропаток и ломти ветчины, и они тотчас же исчезали, как хлопья снега на раскаленном железе. Вельзевул, у которого жадность взяла верх над страхом, решился покинуть свой неприступный пост на карнизе поставца, резонно рассудив, что за уши оттрепать его трудно по причине отсутствия ушей, так же как вряд ли возможно проделать с ним шутку дурного тона, привязав ему к хвосту кастрюлю, ибо без наличия такового немыслимо и столь вульгарное озорство, недостойное людей благовоспитанных, какими казались гости, сидевшие вокруг стола, заставленного сочнейшими и благоуханнейшими яствами. Он прокрался к столу, прячась в тени и распластавшись так, что сгибы его лап торчали, как локти над туловищем, – точь-в-точь пантера, подстерегающая газель. Добравшись до стула, на котором сидел Сигоньяк, он поднялся и, чтобы привлечь внимание хозяина, всеми десятью когтями принялся скрести его колено, будто играл на гитаре. Сигоньяк, снисходительный к смиренному другу, который столько времени терпел голод, служа своему господину верой и правдой, не замедлил разделить с ним удачу, бросая ему под стол кости и объедки, которые кот принимал с бурной признательностью. Пес Миро проник в пиршественную залу вслед за Пьером и тоже получил немало лакомых кусков.
Жизнь словно возвратилась в мертвое жилище, наполнив его светом, теплом и шумом. Актрисы, хлебнув по глотку вина, стрекотали, как сороки на ветках, превознося таланты друг друга. Педант и Тиран спорили о сравнительных достоинствах пьесы комической и пьесы трагической, – один утверждал, что куда труднее вызвать у почтенных зрителей смех, нежели напугать их нянюшкиными сказками, у которых нет иных преимуществ, кроме старины, другой же доказывал, что шутки и прибаутки, сочиняемые комедиографами, принижают самого автора.
Леандр достал из кармана зеркальце и смотрелся в него с таким же самодовольством, как блаженной памяти Нарцисс в воды ручья. Наперекор своим ролям, Леандр не был влюблен в Изабеллу – он метил выше. Авантажной наружностью, великосветскими манерами он надеялся прельстить какую-нибудь пылкую аристократическую вдовушку, чья карета, запряженная четверней, подхватит его у выхода из театра и умчит в замок, где чувствительная красавица будет его дожидаться в соблазнительном неглиже, перед столом с самыми изысканными кушаниями. Осуществилась ли его мечта хоть раз? Леандр утверждал, что да… Скапен отрицал, и это возбуждало между ними нескончаемые споры. Несносный слуга, проказливый, как мартышка, уверял, что сколько бы бедняга ни стрелял глазами, бросая в ложи убийственные взгляды, ни смеялся, скаля все тридцать два зуба, сколько бы ни играл мускулами ног, ни изгибал стан, приглаживал гребешочком волосы парика и менял белье к каждому представлению, лишая себя завтрака, чтобы заплатить прачке, – все же до сих пор он не вызвал вожделения ни у одной знатной дамы, даже сорокапятилетней, с красными пятнами и волосатыми бородавками на лице.
Поймав Леандра на созерцании своей персоны, Скапен ловко возобновил привычный спор, и разъяренный фат предложил пойти отыскать среди багажа баульчик с раздушенными мускусом и росным ладаном любовными записочками, полученными им от целой толпы высокородных особ – графинь, маркиз и баронесс, воспылавших к нему страстью; и это не было пустой похвальбой, ибо порочная склонность к гаерам и комедиантам была довольно распространена в тот век распущенных нравов. Серафина заявила, что на месте этих знатных дам она велела бы отстегать Леандра за дерзость и болтливость, а Изабелла в шутку пригрозила, что не пойдет за него замуж в конце пьесы, если он не будет поскромнее.
Сигоньяк же, хотя ужасное смущение тисками сдавило ему горло и мешало говорить связно, не мог скрыть, как он восхищен Изабеллой, и глаза его были красноречивее уст. Девушка, заметив, какое впечатление она производит на барона, отвечала ему томными взглядами, к великому неудовольствию Матамора, втайне влюбленного в нее, впрочем, без всякой надежды на взаимность, ввиду его комического амплуа. Всякий другой, более ловкий и дерзкий, чем Сигоньяк, повел бы себя решительнее; но наш бедный барон не обучился придворным манерам в своем обветшалом замке и, хотя не страдал недостатком ума и образования, сейчас имел довольно глупый вид.
Все десять бутылок были добросовестно опорожнены, и Педант перевернул последнюю, осушив ее до дна; Матамор верно понял этот жест и отправился за новой партией бутылок, оставшихся внизу в повозке. Барон уже слегка охмелел, однако не мог удержаться, чтобы не поднять за здоровье дам полный бокал, доконавший его.
Педант и Тиран пили, как истые пьяницы, которые никогда не бывают ни совсем трезвы, ни совсем пьяны; Матамор был по-испански воздержан и мог бы существовать, как те идальго, что обедают тремя оливками и ужинают серенадой под мандолину. Такая умеренность имела веские основания: он боялся есть и пить всласть, чтобы не утратить свою феноменальную худобу – лучшее из его комических средств. Полнота нанесла бы урон его дарованию, а потому он, чтобы существовать, постоянно умирал с голоду и в страхе то и дело проверял, сходится ли на нем пояс, не пополнел ли он, чего доброго, со вчерашнего дня. Тантал по своей воле, актер трезвенник, мученик во имя худобы, ходячий анатомический препарат, он жил впроголодь, и, постись он с благочестивой целью, ему был бы уготован рай, как святым отшельникам Антонию и Макарию. Дуэнья поглощала пищу и питье в неимоверных количествах, ее дряблые щеки и тройной подбородок ходили ходуном от работы челюстей, пока еще оснащенных зубами. Что касается Серафины и Изабеллы, то они зевали наперебой и, за неимением веера, прикрывали рот своими прозрачными пальчиками. Сигоньяк, заметив это, несмотря на винные пары, обратился к ним: