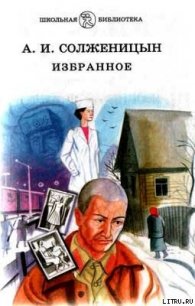Матрёнин двор - Солженицын Александр Исаевич (книги онлайн полностью бесплатно .TXT) 📗
Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль четырнадцатого года: еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споешь при механизмах.
— Пошел он на войну — пропал… Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки…
Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрены — как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором.
Да. Да… Понимаю… Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся.
— Мать у них умерла — и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас: умная выходит после Покрова, а дура — после Петрова. Рук у них не хватало. Пошла я… На Петров день повенчались, а к Миколе зимнему — вернулся… Фаддей… из венгерского плена.
Матрена закрыла глаза.
Я молчал.
Она обернулась к двери, как к живой:
— Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!… Нельзя… Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!
Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях и топором замахнулся на Матрену.
Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала:
— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имечко твое искать, вторую Матрену. И привел-таки себе из Липовки Матрену, срубили избу отдельную, где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.
Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрену не раз. Не любил я ее: всегда приходила она к моей Матрене жаловаться, что муж ее бьет, и скаред муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе.
Но выходило, что не о чем моей Матрене жалеть — так бил Фаддей свою Матрену всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом.
— Меня сам ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. — По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня — ни разику… То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола: «Захленуться бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.
Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрена тоже шестерых детей (средь них и Антошка мой, самый младший, поскребыш) — и выжили все, а у Матрены с Ефимом дети не стояли: до трех месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.
— Одна дочка, Елена, только родилась, помыли ее живую — тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось… Как свадьба моя была в Петров день, так и шестого ребенка, Александра, в Петров день схоронила.
И решила вся деревня, что в Матрене — порча.
— Порция во мне! — убежденно кивала и сейчас Матрена. — Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила — ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась…
И шли года, как плыла вода… В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба — и старела в ней беспритульная Матрена.
И попросила она у той второй забитой Матрены — чрева ее урывочек (или кровиночку Фаддея?) — младшую их девочку Киру.
Десять лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросенка зарежут — сальца.
Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще три сестры ее метили получить эту избу.
Так в тот вечер открылась мне Матрена сполна. И, как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матренина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.
И вот он зачастил к нам, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матреной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больною поясницей, но все еще статный, старше шестидесяти сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью.
Не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это — конец ее жизни всей.
Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни.
И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали. Несмотря на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увезти с чужого двора.