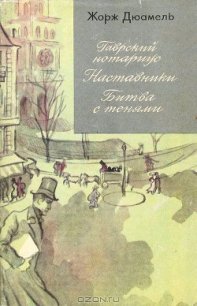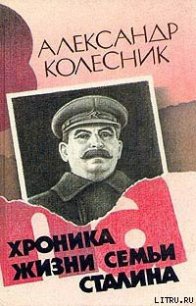Хроника семьи Паскье. Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями - Дюамель Жорж (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT) 📗
Зазвенели, ударяясь о фарфор, ложки, потом битый час расхваливали — впрочем, лишь для вида — тюрбо под острым соусом и филе молодого кабанчика. Я сидел с краю одного из приставленных столов, тех, что были перпендикулярны почетному столу. Со своего места я видел г-на Шальгрена, г-на Ронера и «всех этих эпохальных особ», как говорил сидевший напротив меня Совинье. Г-н Шальгрен казался спокойным и умиротворенным. У Ронера был такой вид, будто он лакомится не деликатесами, а своими врагами. Время от времени он смеялся, уткнувшись в свой стакан. Потом принимался рвать жареное мясо своими крепкими зубами. Каждый оторванный кусок именовался Шальгреном.
Наконец настала очередь пить шампанское и произносить речи. Клемансо с угрюмым, но учтивым видом говорил не больше трех минут. Как-никак, а Клемансо медик. Это у него осталось в крови. Мне думается, он презирает почти всех. Может, не презирает лишь тех людей, среди которых он вырос, тех, которым он обязан своими первыми познаниями.
Его наградили шумными аплодисментами. Затем взял слово Ронер. Я чувствовал, что Старик не обойдется без жалящих уколов в адрес своего ненавистного врага. То, что мы услышали, превзошло все мои ожидания. Представь себе едкое и тщательно отделанное опровержение речи г-на Шальгрена, произнесенной им на открытии Конгресса. Это тем более удивительно, что на сей раз Сенак был здесь ни при чем и г-н Ронер четыре дня назад и понятия не имел о содержании речи г-на Шальгрена. Ненависть, как и любовь, бывает иногда поразительно прозорлива. Кстати, Ронер ни разу не упомянул имени Шальгрена. Все знали об их ссоре и могли уловить его коварные намеки. Но только нам, десяти или двенадцати их верным ученикам, удалось заметить все стрелы, сосчитать все раны. Должен заметить, что г-н Ронер, хоть и злоупотребляет жестами, очень ловкий оратор. В конце концов он добился успеха и заметно порадовался ему. Мне же было тем более не по себе, что к некоторым ораторским эффектам иногда прибегал я и сам; мне было тем более противно, что все эти люди, четыре дня назад рукоплескавшие моему дорогому патрону, теперь так же горячо аплодировали идеям его противника; А ведь они не были простой толпой. Это был сам цвет науки.
Господин Шальгрен молча страдал. Позже, на будущей неделе, я расскажу тебе об этом идиотском празднестве каннибалов. Сегодня вечером я делаю еще один стремительный шаг на пути к индивидуализму, а потому мне необходимо погрузиться в полное одиночество, куда не будет доступа даже самому дорогому моему другу.
Глава XIX
Выходка Жан-Поля Сенака. В глубине тупичка. Необходимое и жестокое решение. И снова Соланж Меземакер. Приглашение к опасному кровосмешению. Лоран не примиряется с отцом
Мне необходимо сообщить тебе очень важные новости. Я должен рассказать о событиях, которые не дают мне покоя вот уже неделю — я не преувеличиваю, — и вряд ли я скоро успокоюсь. Но сегодня, сегодня я тебе ничего не расскажу, потому что ты любишь повернуть все другим боком, потому что твое последнее письмо возмутило меня, потому что ты даже и не читаешь моих длинных посланий, написанных кровью сердца, тех самых посланий, которые ты так жаждешь заполучить от меня и которые, конечно, не в силах утишить боль, терзающую твою душу.
Я не буду тратить попусту время на ораторские приемы: «Кто тебе сказал?.. Кто тебе мог сказать?..» Я знаю, что, несмотря на мои послания, ты получаешь — и даже сам выклянчиваешь — письма от Жан-Поля, от этой низкой и пропащей душонки. Все это недостойно ни тебя, ни меня и особенно тех лиц, за которыми ты шпионишь.
В довершение всех своих подлых выходок, Жан-Поль Сенак уведомил тебя и о том, что моя сестра Сесиль якобы вскоре выходит замуж за Фове: Будь на месте Жю-стена Вейля другой человек, мужественный и гордый, он бы сказал себе прежде всего, что Сенак — каналья, и отшвырнул бы прочь тот самый яд, который услужливо подсовывает ему Сенак. Человек разумный и сильный сказал бы себе, что Сесили Паскье почти двадцать шесть лет, что она выдающаяся пианистка и, как всякая другая женщина, имеет право поступать так, как ей хочется. Наконец, человек хладнокровный сказал бы себе, что, возможно, уверения Сенака — не что иное, как плод его фантазии.
Ибо, в конечном счете, даже я, Лоран, ничего толком об этом не знаю. Я вижу то, что видят и все другие. Я вижу, что Сесиль не отталкивает Фове, что иногда они вместе бывают в обществе, — но мы-то с тобой знаем об этом уже давно. Сесиль ничего не скрывает от меня, по крайней мере, я верю ей или хочу верить. В тот день, когда она твердо решит выйти замуж, я наверняка узнаю об этом раньше всех и тут же уведомлю тебя, Жюстен, как бы горько тебе ни было. Я сделаю это, потому что знаю жизнь, потому что вижу, как растет твоя любовь к Сесили, потому что хочу верить в полное твое исцеление; наконец, просто потому, что я уважаю тебя.
Что же касается этой последней подлости Сенака, то она в моих глазах сыграла свою определенную роль. Я твердо решил порвать с Сенаком, а ему пусть остается его недоброжелательство, его кошмары, его бедность, его собаки, его сногсшибательная настойка, его желчное одиночество. И поскольку я ненавижу пустые разглагольствования, то отправился прямо к нему, в его глухой тупичок. Произошло это сегодня утром, во вторник. Я еще был взвинчен неприятной сценой, разыгравшейся накануне в Академии наук между Ронером и моим патроном, — сценой, о которой непременно тебе позже расскажу, когда почувствую, что ты сможешь спокойно меня выслушать. Я буквально не находил себе места от волнения и, перебирая в памяти эти последние бурные дни, загорался то гневом, то восхищением. Но как бы то ни было, я все же сунул в карман твое письмо и двинулся размашистым шагом к тупичку, мечтая разделаться с Сенаком, поставить крест на Сенаке, вскрыть и ликвидировать гнойник.
Было не больше половины девятого. Барышники, живущие в начале тупичка, уже выводили из сараев лошадей и, награждая их пинками, осыпали такими мудреными и крепкими словечками, что хоть уши затыкай, однако лошади как будто понимали. Поодаль строгали доски столяры, и позади их шуршавших фуганков вились, падая, длинные, красивые и пахучие стружки. А еще дальше застыла тишина, и в самом центре этой тишины стояла хибарка Жан-Поля Сенака.
Хибарка его была будто самим источником и первопричиной тишины: ни дать ни взять кусок льда в мороженице, головешка в угольях. Я постучал два или три раза. За дверью зарычала собака, но дверь так и не открылась. Я решил, что Сенак отправился спозаранку по своим делам, и собрался было уходить, как вдруг заколебался. Ты, конечно, помнишь, как еще в Бьевре мы поднимали по утрам Сенака с постели. Для нас это было чистым наказанием. Ложился Сенак поздно и засыпал с трудом. Его почти невозможно было вырвать из объятий сна, из объятий ночи. Он выползал из своего сонного царства, пошатываясь, отупевший, со спутанными волосами и отсутствующим взглядом. Каждое утро мы сталкивались с этой проблемой: как разбудить Сенака? Это была наша каждодневная забота, наша обязанность. Я вспомнил об этом, уже собираясь уходить. Поэтому я несколько раз с силой ударил ногой по створке двери и, несмотря на лай и визг собак, уловил наконец какой-то шорох, шаги, выдающие присутствие человека.
Сенак открыл дверь. На нем была ночная рубашка. Из-под рубашки торчали кривые, покрытые черными волосами ноги. Он напоминал больного барана, который бесцельно кружится на месте.
Он пробурчал:
— Меня что-то знобит. Не возражаешь, если я полежу в постели?
Он опять юркнул под одеяло и, поскольку я молчал, стал вяло разглагольствовать о политических событиях, в которых я ничего не смыслил: о забастовке почтовых работников, о вооружении Англии... Я пристально и по-прежнему молча смотрел на него. Тогда он вообще стал молоть всякий вздор — как он обычно делает: он, мол, не намерен плесневеть в этих бумажонках; он ненавидит Париж и вообще Францию; он хотел бы попутешествовать вместе со Свеном Гедином по Тибету или уехать на «Нимроде» с Шеклтоном куда-нибудь поближе к Южному полюсу; он чувствует, что способен добиться успеха как исследователь...