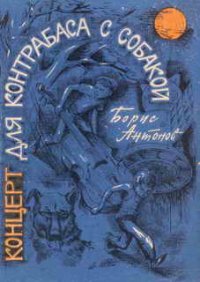Арбат, режимная улица - Ямпольский Борис Самойлович (книги регистрация онлайн TXT) 📗
Забрали не только все копии, но и черновики, и материалы, а у машинистки, перепечатывавшей роман, забрали даже ленты пишущей машинки.
И вот теперь в нашу последнюю встречу он с бессильной мольбой сказал:
— Хочется работать над рукописью, исправлять, переделывать, а нет ее.
И все— таки, мне кажется, он записывал исправления, новые строки, эпитеты, совершенствуя, шлифуя, заостряя, как это делал в свое время до самой смерти, работая над рукописью „Мастера и Маргариты", Михаил Булгаков. Это ведь как дыхание.
Изо дня в день работа над романом, который не может быть, ни за что не может быть напечатан, фанатичная, безумная работа над фразой, над словом в этой как бы не существующей книге, полный отказ, уход из жизни, почти уход в небытие, в сотворенный тобою мир, дерзость, святость, одержимость Бога.
Что же должен пережить, передумать писатель, когда забрали у него то, чем он жил десять лет, все дни и ночи, с чем были связаны восторги и страхи, радости, печали, сны.
Гроссман написал письмо наверх, и его принимали в самой высокой инстанции, выше уже нет.
Василий Семенович рассказывал о человеке, принимавшем его:
— Сердечник, человек поднаторевший, все время вращающийся в интеллигентной среде, но сам не ставший интеллигентом. Не обаятельный ум, но отменно вежлив, без грубости, но это уже давно известно, что на одном этаже грубо, на другом не грубо, что бы ни сделали с вами. Сказал — „это не то, что мы ждем от вас".
Василий Семенович хотел еще что-то добавить, но поглядел на стены и махнул рукой.
Тот, кто принимал его, сказал:
„Мы не можем сейчас вступать в дискуссии, нужна или не нужна была Октябрьская революция", — и еще он сказал, что о возвращении или напечатании романа не может быть и речи, напечатан он может быть не раньше чем через 200 — 300 лет.
Чудовищное высокомерие временщика. Это из той же оперы, что и тысячелетний рейх, десять тысяч лет Мао, дружба на вечные времена, посмертная реабилитация, посмертное восстановление в партии убитого той же партией.
Откроются архивы, откроются доносы, все получит свою оценку. Ну и что? Те, которые будут клеймить это позором, разве не могут повторить со своими современниками то же самое и, может быть, еще в более страшном, чудовищном варианте.
Вот уже лет пять, как Гроссмана забыли, его как бы не существовало. И даже в статьях о военной литературе, где он, бесспорно, был первым, самым крупным художником этой войны, в этих статьях его фамилия встречалась все реже и реже. Нет, он не был под официальным запретом, но как бы и был. Редкий рассказ вдруг прорывался в „Новом мире" или в „Москве". И самое удивительное, что это то же время, когда были опубликованы „Один день Ивана Денисовича", „Матренин двор" и „Случай на станции Кречетовка", когда поговаривали вообще о ликвидации цензуры, именно в эти дни в нашем путаном обществе арестовали роман Гроссмана, негласно репрессировали его имя.
В последние годы жизни он написал „Записки пожилого человека (Путевые заметки по Армении)", произведение, на мой взгляд, гениальное, из того же класса, что „Путешествие в Арзрум". Записки были набраны и сверстаны в „Новом мире" и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. „Записки" пошли в разбор. А после был Манеж, „Обнаженная" Фалька, или, как говорил другой временщик, „Обголенная Фулька", борьба с абстракционизмом, знаменитые приемы интеллигенции, похожие на спектакли на Лобном месте, идеологические качели пошли вниз и вниз, в пропасть, смердяще пахнуло эпохой культа, и уже речи не могло быть о публикации „Записок".
Чья— то рука, вернее, много чиновных рук по указанию одного перста аккуратно и неумолимо изуверски вычеркивали Гроссмана из издательских планов, из критических статей, литературоведческих работ, жилищных списков, вообще из всех списков благодеяний, как это в свое время было с Михаилом Булгаковым, Анной Ахматовой, Андреем Платоновым, а до них с Осипом Мандельштамом.
Василий Семенович показывал мне отрывок, принятый в „Неделе" и отпечатанный только в части тиража, машина посреди ночи была остановлена, и вместо этого отрывка в другой части тиража заверстан очерк о Приморье. На столе у него лежали эти два номера-близнеца с разными носами.
Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в „Новом мире" двумя-тремя абзацами.
— Вы это говорите как писатель и как еврей? — спросил он.
— Да, — сказал я, — там у вас были вещи поважнее и позначительнее, чем антисемитизм.
Он ничего не ответил, смолчал.
Только после молчания рассказал, как одного его знакомого, одетого в шубу, на Арбате задели, а когда он возмутился, плюнули в лицо и сказали: „Скоро будет погром, нам обещали!"
— Как быстро это пришло в подвалы, — печально сказал Гроссман.
Через несколько лет после смерти „Записки", скальпированные, кастрированные, были напечатаны в „Литературной Армении", журнале тиражом две тысячи экземпляров, их прочитали гурманы, любители изящной словесности, фрондирующие интеллигенты.
Заговорили про напечатанное в „Литературной газете" интервью со Стейнбеком, где он вроде бы польстил нашей державе. Василий Семенович сказал:
— Уж как я привык и то возмутился. Я понимаю, что могут приписать, но когда ничего нет, то нет. Тогда пишут: „Пропасть лежит между высказываниями и романами", или: „Трудно понять непонятную и странную позицию". Вот с Бёлем, как ни вертели, ничего ведь не могли придумать.
Потом заговорили про недавно напечатанные мемуары Эренбурга. Он был недоволен ими.
— Это ведь исповедь, покаяться надо было, а то получился фельетон.
Я сказал, что Эренбург был единственным евреем в России, принявшим католичество.
— Нет, еще был Минский, уехал в Испанию в монастырь, дал обет молчания и уже не произнес ни одного слова. Вот так-то! — и он сверкнул очками.
О, этот вечер, когда он, грузный, с одышкой, ерзая на стуле, поглубже и поудобнее устраиваясь и по привычке касаясь рукой больного бока, как бы успокаивая боль, глухим, глубоким, но уже чем-то неуверенным в себе, чем-то усомнившимся в себе голосом читал грустный, щемящий рассказ, впоследствии названный „Мама". Сильный и страшный рассказ о том, как в Британии, на туманной Темзе, в семье работника советского торгпредства родилась девочка и в младенческом сне видела белых чаек над Темзой. Как раз в эти дни его неожиданно отозвали в Москву и тотчас по приезде арестовали вместе с молодой женой, девочка попала в детский дом. И вот однажды в том замоскворецком переулке, где был детский дом, появилось военное оцепление. Жители говорили, что в детском доме чума, а это Ежов с супругой приехали выбирать приемную дочь и выбрали эту девочку. И как потом снова все повторилось, забрали уже Ежова. До сих пор помню пронзительное описание обыска в этой высокой квартире, где только накануне были Сталин, Молотов и Каганович. И снова девочка в детском приюте где-то в Туле, вырезает из старых желтых газет портрет Ежова, уверенная, что это ее отец. Только, как странное призрачное видение, словно воспоминание того, чего никогда и не было и не могло быть, являются ей белые птицы-чайки из того младенческого сна, когда она еще была дочкой тех убитых. Я слушал, и у меня было ощущение, что это мне снится волшебный полет белых птиц.
Василий Семенович читал рассказ ровным, внятным, несколько учительским голосом, приглушенным болью, хрипловато отчеканивая слова. Иногда казалось, что это не проза, а клятва, проклятие, песня песней. А потом он еще прочел небольшой, протокольно записанный рассказ о старой большевичке Надежде Борисовне Алмазовой, которая в последние дни жизни получила комнату в новом доме на Юго-Западе, вскоре умерла, и как после смерти пришло на ее имя письмо. Это воскресенье, и соседи ее по коммунальной квартире играют на кухне в „подкидного дурачка", игра прерывается приходом почтальона. Письмо вскрывают, а там извещение, что Алмазов — муж Надежды Борисовны — посмертно реабилитирован.