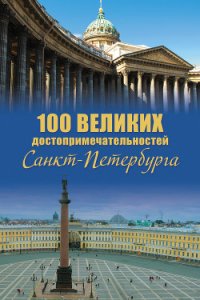Сестры - Толстой Алексей Николаевич (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
На четвертую ночь он поехал на завод. На черном от угольной грязи дворе горели на высоких столбах фонари. Дым из труб сыростью и ветром сбивало к земле, желтоватой и душной гарью был насыщен воздух. Сквозь полукруглые, огромные и пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссий, двигались чугунные станины станков, сверля, стругая, обтачивая сталь и бронзу. Вертелись вертикальные диски штамповальных машин. В вышине бегали, улетали в темноту каретки подъемных кранов. Розовым и белым светом пылали горны. Потрясая землю ударами, ходила гигантская крестовина парового молота. Из низких труб вырывались в темноту серого неба столбы пламени. Человеческие фигуры двигались среди этого скрежета, грохота станков…
Иван Ильич вошел в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повел его по мастерской, объясняя некоторые неизвестные Телегину особенности работы. Затем вошел с ним в дощатую конторку в углу мастерской, где показал книги, ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал:
– Мастерская дает двадцать три процента брака, этой цифры вы и держитесь.
В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу, а Струков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило, он спросил:
– Понизить процент брака, вы думаете, невозможно?
Струков, зевая, помотал головой, надвинул глубоко на нечесаную голову фуражку и вернулся с Иваном Ильичом к станкам.
– Плюньте, батюшка. Не все ли вам равно, – ну, на двадцать три процента убьем меньше немцев на фронте. К тому же ничего сделать нельзя, – станки износились, ну их к черту!
Он остановился около пресса. Старый коротконогий рабочий, в кожаном фартуке, наставил под штамп раскаленную болванку, рама опустилась, стержень штампа вошел, как в масло, в розовую сталь, выпыхнуло пламя, рама поднялась, и на земляной пол упал шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку, Другой, молодой высокий рабочий, с черными усиками, возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал:
– Что, Рублев, стаканчики-то с брачком?
Старичок усмехнулся, мотнул в сторону редкой бородкой и хитро щелками глаз покосился на Телегина.
– Это верно, что с брачком. Видите, как она работает? – Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользила рама пресса. – В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовину выкинуть давно пора.
Молодой рабочий у горна, сын Ивана Рублева, Васька, засмеялся:
– Много бы надо отсюда повыкидать. Заржавела машина.
– Ну, ты, Василий, полегче, – сказал Струков весело.
– Вот то-то, что легче. – Васька тряхнул кудрявой головой, и худое, слегка скуластое лицо его, с черными усиками и злыми, пристальными глазами, осклабилось недобро и самоуверенно.
– Лучшие рабочие в мастерской, – отходя, негромко сказал Струков Ивану Ильичу. – Прощайте. Сегодня еду в «Красные бубенцы». Никогда там не бывали? Замечательный кабачок, и вино дают.
Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублевым. Его поразил тогда в разговоре почти условный язык слов, усмешек и взглядов, каким обменялся с ними Струков, и то, как они втроем словно испытывали Телегина: наш он или враг? По особенной легкости, с какою в последующие дни Рублевы вступали с ним в беседу, он понял, что он – «наш».
Это «наш» относилось, пожалуй, даже и не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него непродуманными и неопределенными, а скорее к тому ощущению доверия, какое испытывал всякий в его присутствии: он ничего особенного не говорил и не делал, но было ясно, что это честный человек, добрый человек, насквозь ясный, свой.
В ночные дежурства Иван Ильич часто, подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры.
Васька Рублев был начитан и только и мог говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата, причем выражался книжно и лихо. Иван Рублев был старообрядец, хитрый, совсем не богобоязненный старичок. Он говаривал:
– У нас, в пермских лесах, по скитам, в книгах все прописано: и эта самая война, и как от войны будет разорение – вся земля наша разорится, и сколько останется народу, а народу останется самая малость… И как выйдет из лесов, из одного скита, человек и станет землей править, и править будет страшным божьим словом.
– Мистика, – говорил Васька.
– Ах ты подлец, невежа, слов нахватался… Социалистом себя кличет!.. Какой ты социалист – станичник! Я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться, – шапку на ухо, в глазах все дыбом, лезет, орет: «Вставай на борьбу…» С кем, за что? Баклушка осиновая.
– Видите, как старичок выражается, – указывая на отца большим пальцем, говорил Васька, – анархист самый вредный, в социализме ни уха ни рыла не смыслит, а меня в порядке возражения каждый раз лает.
– Нет, – перебивал Иван Рублев, выхватывая из горна брызжущую искрами болванку, – нет, господа, – и, описав ею полукруг, ловко подставлял под опускающийся стержень пресса, – книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно. А смиренства нет ни у кого, об этом они не думают… Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени.
– Путаница у тебя в голове, батя, а давеча кто кричал: я, говорит, революционер?
– Да, кричал. Я, брат, если что – первый эти вилы-то схвачу. Мне зачем за царя держаться? Я мужик. Я сохой за тридцать лет, знаешь, сколько земли исковырял? Конечно, я революционер: мне, чай, спасение души дорого али нет?
Телегин писал Даше каждый день, она отвечала ему реже. Ее письма были странные, точно подернутые ледком, и Иван Ильич испытывал чувство легонького озноба, читая их. Обычно он садился к окну и несколько раз прочитывал листок Дашиного письма, исписанный крупными, загибающимися вниз строчками. Потом глядел на лилово-серый лес на островах, на облачное небо, такое же мутное, как вода в канале, – глядел и думал, что так именно и нужно, чтобы Дашины письма не были нежными, как ему, по неразумию, хочется.