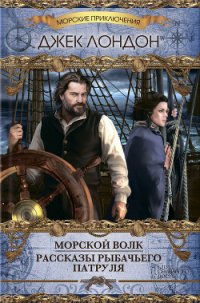Морской волк. Бог его отцов. Рассказы - Лондон Джек (бесплатные версии книг .txt) 📗
Таким образом, то на нартах, то бегом они миновали вторую и третью смену. Остальные золотоискатели растянулись позади них миль на пять. Многие из них еще пытались обогнать гонщиков из Сороковой Мили, но все их попытки были тщетны. Лишь Луи Савуа не отставал от Харрингтона.
На третьей смене, на двадцать пятой миле от Сороковой Мили, вплотную к нартам Харрингтона подъехал Дон Мак-Фэн. Увидев впереди упряжки Волчьего Клыка, Джек Харрингтон поверил в свою окончательную победу. Он знал, что с такой запряжкой он не пропадет. Нет такой запряжки на свете, которая могла бы обогнать его теперь! Луи Савуа увидел Волчьего Клыка и понял, что его дело проиграно. Тогда он стал проклинать самого себя, а вместе с тем коварную женщину, Джой Молино.
В то же время он не забывал о деле. Впереди него, разбрасывая во все стороны искристую пыль, мчался Джек Харрингтон — и Савуа решил не отставать от него и бороться за свое счастье до последнего момента. Уже рассеивались тени и стало светлее на юго-востоке, а соперники все мчались и мчались, не переставая изумляться тому, что сделала женщина, Джой Молино.
Сороковая Миля встала чуть свет, сбросила с себя теплые постельные меха и высыпала на дорогу, откуда можно было видеть Юкон на протяжении нескольких миль, — до ближайшего изгиба. Несколько в стороне от всех стояла Джой Молино, и пространство между ней и блестящей колеей дороги было совершенно свободно. Люди сидели вокруг горящих костров и заключали последние пари, ставя золотой песок и табак. Больше всего ставок было на Волчьего Клыка.
— Едут! — завизжал мальчик-туземец, забравшийся на вершину сосны.
На груди Юкона, у самого изгиба, на белом снегу показалось черное пятно. Тотчас же показалось и второе пятно. По мере того как эти пятна росли, на значительном расстоянии стали обозначаться и другие пятна. Мало-помалу можно было разглядеть очертания нарт, собак, а затем и людей, лежавших вытянувшись на нартах.
— Волчий Клык идет первым, — шепнул полицейский агент, повернувшись к Джой.
Та только улыбнулась.
— Десять против одного за Харрингтона, — крикнул один из местных золотых королей и достал из кармана мешок с золотым песком.
— Всего только? — спросила Джой.
Полицейский агент неодобрительно покачал головой.
— У вас есть при себе хоть сколько-нибудь золотого песку? — спросила Джой, обращаясь к агенту.
Тот показал ей свой мешок с золотом.
— На пару сотен наберется? Ладно! В таком случае я принимаю пари.
Она продолжала загадочно улыбаться. Полицейский чиновник глядел, не отрываясь, на дорогу и что-то соображал.
Харрингтон и Савуа все еще стояли на коленях и немилосердно хлестали собак; впереди по-прежнему шел Харрингтон.
— Десять против одного за Харрингтона! — снова закричал богач, вызывающе размахивая туго набитым мешочком.
— Принимаю пари! — заявила Джой.
Чиновник повиновался и пожал плечами, словно желая сказать, что допускает это исключительно ради такой женщины, как Джой Молино.
Уже прекратились пари, и наступила почти могильная тишина.
Словно судно на море под жестоким ветром, качаясь и ныряя, мчались нарты. Несмотря на то что морда передовой собаки все еще касалась задка нарт Харрингтона, Луи Савуа имел очень мрачный вид.
А Джек Харрингтон не разжимал губ и не смотрел ни вправо ни влево. Его упряжка шла по-прежнему твердо и ритмично, а Волчий Клык, растянувшись во всю длину, опустив голову почти до земли, ничего не видя и изредка слабо подвывая, великолепно вел остальных собак.
Все затаили дыхание. По-прежнему царила мертвенная тишина, время от времени нарушаемая скрипом полозьев и свистом бичей.
Вдруг воздух рассек зычный призыв Джой Молино:
— Эй, Волчий Клык, Волчий Клык!
Волчий Клык, услышав призыв, тотчас же свернул с дороги и направился в сторону своей госпожи. За ним покорно последовала вся запряжка — нарты на одно мгновение перегнулись, и Джек Харрингтон как стрела вылетел на снег. Едва только Савуа мелькнул мимо него, Харрингтон вскочил на ноги и стал с отчаянием следить за тем, как его соперник несется вдоль речки, по направлению к явочной конторе.
— Да, он ловко правит собаками! — сказала Джой Молино, обращаясь к полицейскому чиновнику. — Я не сомневаюсь, что он придет первым.
Женское презрение
Все же случилось так, что Фреда и миссис Эпингуэлл наконец встретились. Фреда была гречанка по происхождению и танцовщица по профессии. По крайней мере, она выдавала себя за гречанку, хотя многие сомневались в этом, принимая во внимание то обстоятельство, что ее классическое лицо моментами выражало слишком много силы. Кроме того, адские огни, которые часто зажигались в ее глазах, в свою очередь зарождали сомнения относительно ее происхождения. Некоторым людям — только мужчинам! — были знакомы эти ее особенности, и кто видел их раз, не забыл их до сего дня и, надо думать, не забудет до смерти.
Она никогда не говорила о себе лично, и в минуты, когда она находилась в абсолютно спокойном состоянии, ее греческое происхождение говорило само за себя. Ее меха считались лучшими во всей стране, начиная с Чилкута и кончая Сент-Майкелем, и имя ее очень часто срывалось с уст мужчин.
Но тут же надо указать на то, что миссис Эпингуэлл была женой полицейского начальника и, значит, с точки зрения общественного положения стояла очень высоко, так как ее орбита проходила между самыми выдающимися представителями избранного даусоновского общества, которое среди обывателей было известно под названием «официальная свора». Чарли Ситке пришлось однажды проделать с ней очень тяжелый путь в то время, когда голод сделал человеческую жизнь дешевле фунта муки, и, по его мнению, она была выдающейся женщиной, равной которой почти не было в округе. Правда, Чарли был индеец, и критерий его был весьма примитивен, но слово его было веско и к вердикту его всегда прислушивались.
Обе женщины, каждая в своем роде, были типичными покорительницами мужских сердец, но жизненные пути их не имели между собой ничего общего, ни единой точки соприкосновения. Миссис Эпингуэлл царила в своем собственном доме и затем в Бараках, где, главным образом, подвизалось молодое поколение. Не стоит уж говорить об официальном круге, в состав которого входили люди, причастные и к полиции, и к суду, и т. д.
Что же касается Фреды, то она царила в городе, но ее почитателями были те же самые люди, которые занимали весьма важные официальные посты в Бараках и которых миссис Эпингуэлл кормила и угощала чаем и консервами в своей нагорной хижине из необструганных досок.
Каждая из них прекрасно знала о существовании другой, но жизненные цели их были диаметрально противоположны, и, несмотря на то что они часто слышали друг о друге и отличались чисто женским любопытством, внешне они не проявляли никакого интереса. Такое положение, безо всяких осложнений, могло бы продолжаться до бесконечности, если бы в город не явилось новое лицо в образе натурщицы, которая прибыла на превосходной упряжке по первому льду и которой сопутствовала космополитическая репутация. Лорен Лизней, венгерка родом, очень привлекательная женщина с артистическим лицом, ускорила ход событий, и из-за нее, главным образом, миссис Эпингуэлл оставила свой дом на Холме и явилась к Фреде; а Фреда, со своей стороны, на время оставила те места, где ее чаще всего можно было встретить, и посетила губернаторский бал, к непередаваемому смятению всех присутствовавших на нем.
Все это, конечно, старая-престарая история, о которой в свое время знал чуть ли не весь Клондайк, но вся штука в том, что даже в Даусоне весьма немногие знали истинную причину всего случившегося. Кроме этих нескольких людей, никто не мог дать себе точный отчет в поступках как жены полицейского начальника, так и гречанки-танцовщицы. И на долю не кого иного, как Чарли Ситки, выпала честь познакомить и этих немногих с настоящими фактами дела. С его уст сорвались слова, которые подняли завесу над некоторыми довольно таинственными обстоятельствами. Весьма сомнительно, чтобы сама Фреда пожелала рассказать обо всем какому-нибудь писателю. Точно так же невероятно, чтобы миссис Эпингуэлл намекнула кому-нибудь об этом. Очень может быть, что они и сказали кое-что, но это не похоже на них.