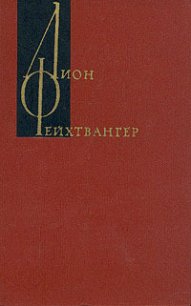Семья Опперман - Фейхтвангер Лион (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений TXT) 📗
И вот он сидит у дяди Густава в гостинице, сидит на карнизе камина, стараясь сохранить равновесие, боясь, как бы хрупкое сооружение под ним не рухнуло. Густав расспрашивает Генриха о его планах. Генрих решил стать инженером. Его больше всего интересуют подземные сооружения. В этой области, как ему кажется, есть еще много неизведанных возможностей. Он собирается поработать несколько лет в Англии и Америке, но цель его – работать в Германии. В других странах его ждут, несомненно, лучшие перспективы, но он так же не может оторвать свои сокровенные планы от Германии, как не мыслит себя вне своего гуманитарного воспитания, хотя оно не очень-то ему нужно для профессии инженера. Он хочет работать в Германии. Воображению его рисуется подземная автомобильная дорога в Берлине, метрополитен в Кельне. Эти идиоты не собьют его с толку, не заставят его изменить свое отношение к Германии.
Густав слышал в его речах только то, что хотел услышать. Значит, и этот мальчик утверждает, на свой лад, то же, что и он, Густав. Его в Германии не хотят, но он хочет в Германию, он хочет дать Германии то, что считает для нее нужным. Густав очень взволнован этим выводом. И без всякого перехода он рассказывает о других немцах, которые, как и Генрих, не дают сбить себя с толку; о детях, которые, несмотря на побои, отказываются петь «Хорст-Вессель», о судьях, которые отказываются воспроизводить римское приветствие и идут за это в концентрационные лагеря; о заключенных, которые дают себя расстреливать, но не нарушают молчания.
Однако в Генрихе все это не вызывает сочувствия. Он спрыгнул со своего карниза и бегает по комнате. Нет, сэр, говорит он, такого рода демонстрации – это чепуха. Ему приходилось кое-что слышать об этом, но он ни разу не слышал, чтобы демонстрации принесли какую-нибудь пользу. Да и что тут может быть полезного. Мучеников человечество знало достаточно. Хватит. Генрих кривит ярко-красные губы, чуть опускает веки, лицо его вдруг взрослеет, он становится похож на своего отца, только взгляд у него жестче, тверже.
– Нет демонстрации убедительнее, чем смерть, – говорит он. – Так демонстрировал Бертольд. Мы были с ним очень дружны. От того, что он умер, никому легче не стало. И сколько бы народу ни покончило с собой, сколько бы ни пошло в концентрационные лагеря, толку от этого никакого.
Он говорил решительно, даже с некоторым пафосом. Но этого он терпеть не может, а потому сейчас же переходит на будничный тон.
– Ну, вот, – улыбается он и сразу становится очень юным. – Я плохой спорщик, но есть у меня здесь друг, молодой студент, родом из Западной Швейцарии, он лучше и яснее умеет выразить то, что я думаю. Мы сговорились с ним встретиться сегодня после обеда в кафе «Корсо». Может быть, и ты придешь туда? Пьер тебя, несомненно, заинтересует. Он действительно голова.
Густав пришел. Друг Генриха был рыжеволосый, самоуверенный, изрядно дерзкий юноша лет девятнадцати, по имени Пьер Тюверлен, брат известного писателя, как это вскоре выяснилось. Голос, шутовское лицо Пьера, его рыжие волосы, глаза почти без ресниц не располагали к себе. Однако Густаву понравилась развязная беспечность, с какой юноша излагал свои резкие, не по летам взрослые взгляды.
Кафе было большое, шумное, прокуренное, гремела музыка, но юноши чувствовали себя здесь, видимо, очень хорошо. Едва Генрих рассказал, о чем он сегодня утром говорил с дядей Густавом, как Пьер Тюверлен, легко покрывая звонким, пронзительным голосом музыку, набросился на Густава.
– Нет, сударь, все это чепуха. Романтикой тут ничего не сделаешь. По мне, пусть бы их и вовсе не было, этих демонстрантов. Они чертовски несовременны, поверьте. Против пулеметов бороться демонстрациями смешно. – Генрих не сводил с друга преданных глаз. – Здравый смысл, здравый смысл и еще раз здравый смысл. Вот что нам теперь нужно, – заключил Пьер. А Генрих поддержал:
– Common sense. Все другое исключается. Кто поступает иначе, от того несет нафталином.
Густава изумляло, почти печалило, что таких молодых людей могут согревать такие холодные мысли. Оркестр играл попурри из оперы «Немая из Портичи». Сто лет тому назад в Брюсселе эта опера так зажгла слушателей, что они вышли на улицу и совершили революцию. Эти юноши, без сомнения, не зажгутся чем-либо подобным.
– А Сократ, Сенека, Христос? Их смерть тоже была бесполезной? – спросил Густав.
– Этого я не знаю, – уклончиво ответил Пьер Тюверлен. – Но я знаю, что с тех пор, как существует экспериментальная наука, умнее жить за идею, чем умирать за нее. От этого идея больше выигрывает. Несколько наивных клеветников выдумали про великого Галилея, будто он сказал: «А все-таки она вертится». Не говорил он этого. Увидев орудия пыток, он немедленно отрекся. Потому что он был подлинно велик. Он знал, что все равно земля вертится и будет вертеться, так почему бы ему не сказать, что она не вертится. Ведь скажет он или не скажет, от этого она вертеться не перестанет, – вот что он думал про себя. Так следовало бы поступать и вашим героям, сударь. Кричать «Хейль Гитлер», а про себя думать иначе. Ваши герои, сударь, – закончил он, подчеркивая каждое слово сильным взмахом покрытой рыжеватым пухом руки, – бесполезные, отсталые романтики. В наше время строить из себя мученика – бессмыслица.
Генрих, видимо, стыдился своей прежней горячности. Он сидел в удобном ресторанном кресле, выпрямившись, в позе человека, совершающего церемонный визит.
– Мы часто рассуждаем с отцом и матерью, – сказал он, – что делать немецким евреям, оставшимся в Германии. Они в ужасном положении. Большинство не может выехать: денег нет, а без денег никуда не впускают. И приходится им, несмотря ни на что, цепляться за свой заработок в Германии. Их оплевывают, они вне закона, в бассейнах для плаванья висит объявление, что им вход воспрещен, на паспорт им ставят штемпель: «жид», девушке-христианке нельзя показаться с евреем на улице, из всяких обществ и союзов их выбрасывают, играть в футбол они имеют право только между собой. Если еврей жалуется в полицию, ему отвечают: «Это справедливый народный гнев». Так что же им, демонстрации, по-твоему, устраивать? Неужели, дядя Густав, ты потребуешь от них, чтобы они вышли на середину улицы и кричали: «Мы выше вас: это вы ничтожество».
– Я ничего не требую, дружок, – сказал Густав. – Может быть, евреи в Германии и правы. – Музыка гремела, чашки звенели, люди вокруг громко болтали. Но Густав произнес это так тихо и так вежливо, что друзья, приготовившиеся немедленно возразить ему, на мгновение затихли.
Затем Тюверлен сказал, но уже не так запальчиво:
– Были случаи, когда немец, десятки лет проживший в браке с еврейкой, имевший детей с ней, заявлял, что теперь он осознал свою ошибку, что он стыдится ее, а кстати, он уже много лет не спит со своей женой, и подавал прошение о разводе. Это прохвосты, а не люди, хотя, кто знает, не делались ли такие заявления с ведома и одобрения жены, чтобы он, муж, мог содержать ее и детей. Тогда это не прохвосты, а умницы.
– Well, – сказал Генрих, – чертовски трудно, должно быть, молчать, когда на голову тебе плюет человек в десять раз ничтожнее тебя. Нужно большое самообладание, чтобы в таких случаях не наделать глупостей и удержать язык за зубами. Мой однокашник Курт Бауман писал мне, что им задают теперь сочинения на темы «Что такое героизм» и тому подобное. У меня по немецкому больше тройки никогда не было, но такое сочинение я бы им написал. У них бы глаза на лоб полезли, они поставили бы мне двойку, хотя сочинение было бы на пять с плюсом.
Что мог возразить Густав на слова племянника? Но перед ним вставали картины, порожденные документами Бильфингера. Он думал о фотографиях Георга Тейбшица, о Иоганнесе своих галлюцинаций, пляшущем на ящике: «Приседание! Встать!» – и кричащем, как попугай. С кротким упорством отворачивался Густав от благоразумия, проповедуемого молодыми друзьями; задумчиво, без тени упрека, сказал он своему племяннику Генриху:
– Мне кажется, что по милости этого вашего благоразумия вы разучились ненавидеть.