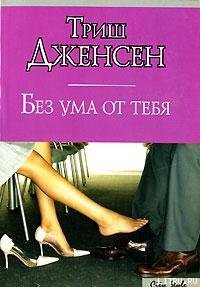Хмурое утро - Толстой Алексей Николаевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Огромный блестящий радиатор, с широко расставленными фарами, дыбом взлетел на бугор, и показалась открытая светло-серая длинная машина.
От мощного ее рева лошади в эскадроне начали переступать и вскидывать головы. Иммерман скомандовал: «Смирно!» Машина остановилась, едва не задавив щенка, который боком отскочил в сторону, как ватный, и опять сел. Телегин подъехал, отсалютовал шашкой наугад кому-то из трех военных, сидевших в машине, – в рыжих чапанах поверх шинелей. Тот, кто сидел рядом с шофером, поднялся и, положив руку на ветровое стекло и не глядя на Телегина, принял рапорт.
Затем он резко повернулся к фронту. Двое военных на заднем сиденье, – один – бледно-бумажный, с мокрой бородой, и другой – полный, надутый, свирепый, – поднялись и взяли под козырек. Он заговорил лающим голосом, вскидывая лицо так, что чернели его ноздри и плясало на переносице запотевшее пенсне:
– Бойцы, именем рабоче-крестьянской власти приказываю вам острее наточить шашки и крепче привинтить штыки. Кто из вас не хочет напоить своего коня в устье тихого Дона? Только трус не хочет этого… Почему вы еще здесь, а уже не там? Республика ждет от вас легендарных подвигов. Вперед! Опрокиньте врага и развейте его прах по степи-матушке…
Он говорил все напористее, в том же роде. Кончил и оглянул фронт. «Ура!» – крикнул он, поднимая над головой стиснутый кулак, и бойцы разноголосо ответили. Смутила их эта речь. Будто человек с луны свалился. Чего-чего, а уж такой обиды, что обозвал их трусами, – они не ждали.
Кивком головы он подозвал Телегина:
– Я недоволен состоянием ваших бойцов, – это сброд на лошадях! Я недоволен состоянием ваших коней, – это клячи! Следуйте за мной…
Он упал на сиденье рядом с шофером. Огромная машина с места рванулась к хутору.
Телегин поскакал вслед, торопливо соображая, – пожалуй, не был бы верный расстрел…
Машина остановилась у избы полевого штаба. Телегин и за ним Чесноков, неумело плюхающийся в седле, подскакали. На крыльце стоял дежурный телефонист с испуганным лицом, у него дрожала рука, поднесенная к виску. Он глазами умолял Телегина о разрешении говорить. Заикаясь от усилия выражаться формально, он сообщил, что минуту тому назад его вызвал штаб бригады (все учреждения, имущество, казна и архивы бригады находились верстах в сорока севернее, в селе Гайвороны). Ему успели передать, что на село Гайвороны наскочили разъезды белых, не иначе как мамонтовцев, и тут же телефонная связь порвалась.
Надутый военный, – начальник штаба главкома, – тяжело сползая на колено, перегнулся к переднему сиденью и начал шептать председателю. Тот кивнул и – через плечо Телегину:
– Мои директивы вы получите полевой почтой.
Телегин и Чесноков долго еще, молча и ошалело, глядели на черную дорогу, по которой, как видение, унеслась и растаяла в дождевой мгле звероподобная машина.
Даша работала в исполкоме, в отделе мелиорации, вторым помощником начальника «стола проектов». Иногда она раскрашивала акварелью пятна на карте Костромской губернии, где предполагалось осушать болота, добывать торф в неисчерпаемом количестве и болотную руду. Иногда переписывала записки, которые сочинял инженер Грибосолов для того, чтобы держать исполком в постоянном нервном возбуждении от грандиозности его замыслов, по существу совершенно бесплодных, так как, кроме ящичка с красками, кисточки и небольшого запаса ватманской бумаги, в мелиоративном отделе не было ничего: ни лопат, ни телег, ни лошадей, ни насосов, ни денег, ни рабочей силы.
Даша получала паек, – четверть фунта остистого хлеба, иногда немного лаврового листа или перца в зернышках. Анисья, работавшая в исполкоме курьершей, получала за боевые заслуги усиленный паек: кроме хлебной осьмушки и перца, еще полторы воблы, иногда ржавую селедку.
По совместительству Анисья работала в драматическом кружке и бегала слушать общедоступные лекции на историко-филологическом факультете, эвакуированном сюда из Казани. К своим прямым обязанностям – сидеть в коридоре, в продранном вольтеровском кресле, у дверей зампредисполкома – Анисья относилась крайне высокомерно: либо она, обхватив голову, чтобы заткнуть пальцами уши, и нагнувшись к коленям, читала трагедии Шекспира и, когда ее звали, отвечала рассеянно: «Сейчас, сейчас…» – и даже огрызалась на повторные предложения – отнести какой-нибудь пакет в какую-нибудь одну из многочисленных комнат, загроможденных столами и набитых людьми, выдумывавшими себе занятия; либо ее вообще не оказывалось на месте. Однажды, когда по этому поводу одна из сотрудниц, с картофельным лицом, сделала ей замечание, – Анисья так темно взглянула на нее: «Не возвышайте голос, товарищ, казачьей шашки я не боялась…», – что интеллигентная сотрудница, прежде много потрудившаяся на почве женской эмансипации, сочла за лучшее не связываться с этой рабоче-крестьянской нахалкой…
Даша возвращалась домой в шестом часу. Анисья – иногда только поздно ночью. Жили они в деревянном домике над Волгой. Кузьма Кузьмич, крепко помня наказ Ивана Ильича, – кормить Дашу и Анисью досыта, – продолжал, против своей совести, заниматься туманными делами по добыче съестных продуктов и дровишек, – хотя тяжеленько ему иной раз приходилось: и года сказывались, и осенняя непогода клонила от суеты к тихим философским размышлениям у натопленной печурки, под мягкий шум дождя по крыше.
Обычно, когда утренний полусвет уже синел в окошке, Даша и Анисья кушали морковный чай с чем-нибудь и уходили на работу. Кузьма Кузьмич, вымыв посуду, вынеся помойное ведро и подметя веником пол в обеих комнатушках, начинал не спеша, а часто и со вздохами, обдумывать и прикидывать: у кого бы сегодня можно стрельнуть парочку яичек, кусочек сала, бутылку молока, полшапки картошки… Кузьма Кузьмич не побирался, – боже сохрани! Он лишь производил честный обмен философских и моральных идей на предметы питания. За эти два месяца его знала почти вся Кострома, и он не раз путешествовал даже в пригородные села.
Размышляя, он обычно что-нибудь чинил или пришивал у рассветающего окошка. Жизнь – могучая сила. Даже во времена глубочайших исторических сдвигов и тяжелых испытаний люди вылезают из материнского чрева головой вперед и со злым криком требуют себе места в этом бытии, по вкусу или не по вкусу оно приходится их родителям; люди влюбляются друг в друга, не глядя на то, что внешних средств для этого у них несравненно меньше, чем, скажем, у тетерева, когда он, приплясывая на весенней проталине, распускает роскошный хвост. Люди ищут утешения и готовы половину каравая отрезать человеку, который прольет неожиданный покой в их душу, истерзанную сомнением: «Куда же мы придем в конце-то концов, – траву будем есть, срам капустным листом прикрывать?» Другие благодарны понятливому слушателю, перед кем, не опасаясь Губчеки, можно вывернуть себя наизнанку со всей прикипевшей злобой.
Кузьма Кузьмич отправлялся по дворам. Вытирал в темных сенях ноги и заходил на кухню. Иная хозяйка крикнет ему со злобой:
– Опять, дармоед, приплелся! Нету ничего сегодня, нету, нету…
– О Марье Саввишне пришел справиться, – приветливо тряся красным лицом и морща губы, отвечал Кузьма Кузьмич. – Плоха она?
– Плоха.
– Анна Ивановна, не смерть страшна, – сознание бесплодно прожитой жизни томит нас тоской. Вот где нужно утешение человеку, – положив руку ему на холодеющий лоб, сказать: жизнь твоя была скудная, Марья Саввишна, и нечего жалеть о ней, но ты потрудилась, как самая малая мурашка, – безрадостно и хлопотливо тащила свою соломинку. А труды никогда не пропадают даром, все складывается, – дом человеческий растет и широк и высок, и где-то твоя соломинка чего-то подпирает. Детей, внуков ты выходила, вот и вечер твой настал: закрой глаза, усни тихо. Не жалей ни о чем: не ты в твоем убожестве виновата…
Кузьма Кузьмич журчал, сидя у двери на табурете, а хозяйка, коловшая лучину, вдруг бросала косарь, часто – несколько раз – вздыхала, и ползли у нее слезы по щекам…