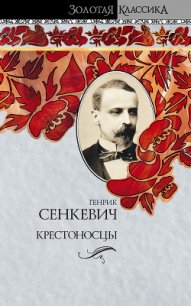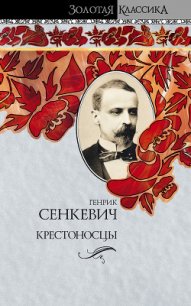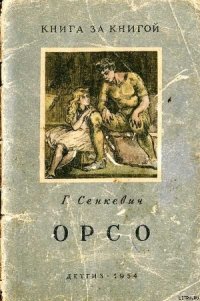Без догмата - Сенкевич Генрик (лучшие книги онлайн TXT) 📗
Я тоже понимал, что она так поступить не может, чтобы не нарушить мира в нашей семье, а если бы даже и могла, не сделает этого, чтобы не вызвать столкновения между мной и Кромицким. И какой-то внутренний голос шептал мне: «Кто знает, за кого из нас двоих она боится больше?»
Положение у Анельки было в самом деле исключительно трудное, и я пользовался этим сознательно, без зазрения совести, как полководец на поле битвы пользуется невыгодным положением противника. Я задавал себе только один вопрос: «Поступил бы ты так, если бы знал, что Кромицкий заставит тебя ответить за это?» На этот вопрос я мог честно ответить – «да», и потому считал, что на все остальное не стоит обращать внимания.
Да, Кромицкий мне страшен только тем, что он может увезти от меня Анельку бог знает куда. При одной мысли об этом я прихожу в отчаяние.
Но тогда, в коляске, я боялся прежде всего Анельки. Что-то будет завтра? Как она отнесется к тому, что я сделал? Увидит в этом дерзость или порыв благоговейного восторга и обожания? Я чувствовал себя, как нашкодивший пес, который боится, что его накажут. Сидя против Анельки, я пытался по ее лицу, освещенному луной, угадать, что меня ждет. Глядел на нее так смиренно, был так несчастен, что сам жалел себя, и надеялся, что она тоже не может не пожалеть меня. Но Анелька не смотрела на меня и слушала со вниманием, – притворным, быть может, – то, что говорил Кромицкий. А он подробно объяснял тетушке, что он предпринял бы и как добился бы огромных доходов, если бы Гаштейн принадлежал ему. Тетя только головой кивала, а он то и дело повторял: «Ну, разве я не прав?» Он явно хотел убедить ее, что он – человек деловой, оборотистый и из каждого гроша сумеет сделать десять.
Дорога в Гофгаштейн прорублена в горах и вьется все время над пропастью. На многочисленных ее поворотах свет луны падал попеременно то на нас, то на сидевших напротив дам. В чертах Анельки я читал только тихую грусть, но меня ободряло уже то, что в них не было суровости. Она ни разу не взглянула на меня, но я утешался мыслью, что, когда лунный свет падает на меня, а ее лицо в тени, она, быть может, незаметно смотрит на меня и думает: «Никто во всем мире не любит меня так, как он, и никто не страдает так из-за меня». И ведь это правда.
Мы оба молчали. Говорил все время только Кромицкий, и голос его мешался с шумом реки, протекавшей по дну ущелья, и с противным визгом тормоза, который кучер то и дело подкладывал под колеса. Этот визг терзал мне нервы, но их успокаивал теплый и светлый вечер. Было полнолуние. Месяц поднялся из-за гор и плыл в просторах небес, освещая макушки Бокштейнкогля, ледники Тишлькара, изрезанные ущельями склоны Гранкогля. Снега на вершинах гор мерцали светло-зеленым металлическим блеском, а так как ниже лежащие склоны сливались с вечерним мраком в одну сплошную серую массу, то казалось, что снеговые вершины парят в воздухе, легкие, неземные. Вокруг была такая мирная зачарованная тишь, таким покоем веяло от этих уснувших гор, что мне пришли на память слова поэта:
А что, собственно, Анелька должна простить? Только то, что я целовал ее ноги. Если бы она была статуя святой и стояла в костеле, разве она стала бы гневаться и обижаться на такой знак благоговейного поклонения? Когда настанет время объясниться, я ей так и скажу – это должно ее убедить.
Я часто чувствую себя глубоко и несправедливо обиженным тем, что Анелька, – безотчетно, быть может, и не называя вещей по имени, – считает мою любовь чисто земным порывом чувственной страсти. Не спорю, чувство мое соткано из разных элементов. Но Анелька, кажется, не понимает, что есть в нем и элементы идеального, настоящей поэзии. Часто страсть во мне дремлет, и я люблю Анельку только душою – такой представляется нам первая наша юношеская любовь. Порой мое второе «я», тот критик, что сидит во мне и все анализирует, проверяет, а часто и высмеивает, говорит мне: «Вот как! А я и не знал, что ты любишь, как студент и как романтик». Да, именно так! Быть может, это смешно, но так я люблю и верю, что чувство это глубоко искренне, в нем нет ничего надуманного. Оттого-то любовь моя так всецело захватила меня, оттого она печальна, тем печальнее, чем сильнее дает себя знать и чем одностороннее она кажется Анельке.
В тот вечер я как раз переживал такие минуты усыпления страсти и мысленно говорил Анельке: «Неужели ты думаешь, что в моей любви нет ничего идеального? Вот сейчас я люблю тебя так чисто и самоотверженно, что ты можешь и должна эту любовь принять, и жаль, если ты ее отвергнешь, – ведь ты могла бы, ничем не поступаясь, спасти меня. Я сказал бы себе тогда: „Вот те пределы, в которых мне можно жить, вот мой мир“, – и у меня было бы хоть что-нибудь, я старался бы переделать себя, перейти в твою веру навсегда».
Я воображал, что Анелька может и должна согласиться на такое условие, и тогда между нами будет мир и оба мы успокоимся. Я давал себе слово все это ей объяснить, а когда мы решим навсегда душой принадлежать друг другу, тогда можно даже и расстаться, уехать. Меня окрыляла надежда, что Анелька согласится на такое решение. Она должна понять, что иначе жизнь нам обоим станет невмоготу.
Было уже девять часов, когда мы доехали до Гофгаштейна. В деревне царила тишина, перед отелями – ни одного экипажа, в домах темно. Светились только окна на постоялых дворах, да у Мегера хор из нескольких очень недурных мужских голосов пел тирольские песни, «иодли». Я вышел из экипажа, чтобы предложить певцам показать нам свое искусство. Но оказалось, что это были не здешние крестьяне, а какие-то альпинисты из Вены, им неудобно было предлагать плату. Я купил два букета эдельвейсов и других альпийских цветов. Вернувшись к коляске, один поднес Анельке, другой развязал – якобы нечаянно, – и цветы посыпались к ее ногам.
– Не надо, пусть тут и лежат, – сказал я, когда Анелька нагнулась, чтобы их подобрать. И пошел за третьим букетом, для тетушки. Подходя с ним к экипажу, я услышал голос Кромицкого:
– И если тут, в Гофгаштейне, открыть второй благоустроенный курзал, можно получать сто процентов прибыли.
– А ты все о том же? – сказал я небрежно.
Вопрос я задал умышленно – это ведь было все равно, что сказать Анельке: «Смотри – я весь полон тобой одной, а твой супруг, хотя ты рядом, думает только о деньгах. Сравни наши чувства к тебе – и сравни нас самих!»
И я почти уверен, что она меня поняла.
На обратном пути я несколько раз пробовал завести разговор, но мне так и не удалось вовлечь в него Анельку. Когда мы остановили коляску у ворот нашей виллы, Кромицкий пошел с дамами наверх, а я остался, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя затем в дом, я уже не застал Анельки за чайным столом, она, по словам тетушки, очень устала и захотела сразу лечь. Немало обеспокоенный, я уже стал упрекать себя в том, что мучаю ее. Когда любишь по-настоящему, нет ничего тяжелее сознания, что ты причиняешь зло любимой. Мы пили чай молча – тетя клевала носом, Кромицкий был словно чем-то встревожен, а я терзался все сильнее. «Должно быть, ее очень взволновало мое поведение там, на лестнице, – думал я. – Она во всем видит дурную сторону». Я предчувствовал, что завтра Анелька будет меня избегать. Она, конечно, считает, что я нарушил заключенный между нами мир. Эти мысли меня пугали, и я решил завтра ехать в Вену – попросту говоря, сбежать отсюда. Во-первых, я боялся Анельки, во-вторых, хотел увидеться с Хвастовским, в-третьих, подумал (один бог знает, с какой горечью!), что лучше дать Анельке отдохнуть хоть два дня, освободив ее от моего присутствия.
50
Ах, вот когда два сердца вместе плачут… – Строки из поэмы Ю. Словацкого «В Швейцарии». (Перевод Л. Мартынова.)