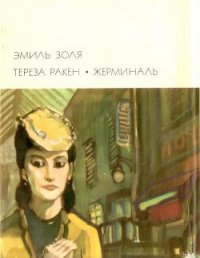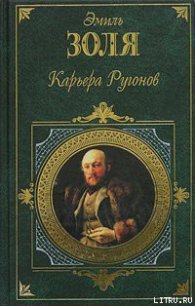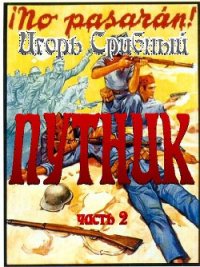Жерминаль - Золя Эмиль (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT) 📗
Раздался далекий звонок. Энбо вздрогнул. Это был звонок, которым его извещали, по его приказу, что пришел почтальон. Он поднялся и громко выругался, как бы облегчая в невольном потоке грубых слов свое несчастное сердце.
— А, да плевать мне на все, плевать на их письма, телеграммы! Ну их к черту!
Энбо охватила бешеная злоба, жажда швырнуть в помойную яму всю эту мерзость, затоптать ее ногами. Эта женщина просто шлюха. Он выбирал самые низкие слова, которые хлестали бы ее, как пощечины. Внезапно вспомнилось, что она, спокойно улыбаясь, устраивает брак Поля и Сесили. Это его окончательно взорвало. Значит, нет ни страсти, ни ревности, ничего, — одна животная чувственность. Она просто развратная кукла, ей нужен мужчина как времяпрепровождение, вроде привычного десерта. Она одна виновата, — Энбо почти оправдывал племянника, — у нее проснулся аппетит, и она вонзила в него зубы, как в незрелый плод, украденный на дороге. Кого она еще возьмет, до кого опустится, когда под рукой не будет практичных, услужливых племянников, которые нашли в их семье стол, постель и женщину?
Робко скребутся в дверь; Ипполит шепчет сквозь замочную скважину.
— Сударь… почта пришла… и господин Дансарт; он говорит, что там резня…
— Иду, черт возьми!..
Что же ему теперь с ними делать? Выгнать их, когда они явятся из Маршьенна, как вонючих скотов, которых он не желает больше терпеть под своим кровом. Схватить бы дубину да крикнуть, чтобы они убирались вон отсюда и поискали другого места для случки. От их вздохов, от их смешанных дыханий стоит в комнате эта влажная духота; запах, который его дурманил, — это запах мускуса от кожи его жены, от ее развратной потребности обливаться сильными духами. Во всем он чувствовал одуряющий запах блуда, прелюбодеяние, — в неубранных кувшинах, в полных тазах, в разбросанном белье, в мебели, во всей этой зараженной пороком комнате. В бессильной ярости бросился он к постели и стал бить кулаками по тем местам, где, ему казалось, отпечатлелись их тела; он сорвал одеяло, смял простыни, мягкие и податливые, словно и они тоже устали от ночных ласк.
Вдруг ему послышалось, что опять идет Ипполит. Ему стало стыдно. Еще задыхаясь, с бьющимся сердцем, он стал вытирать лоб, стараясь успокоиться; а потом подошел к зеркалу, посмотрел на свое лицо и не узнал себя, — так он изменился. Немного опомнившись, Энбо сделал над собой невероятное усилие и сошел вниз.
Внизу его дожидалось пять человек, не считая Дансарта. Все принесли важные новости о походе забастовщиков на шахты. Старший штейгер подробно доложил, как было дело в Миру: там все спасено благодаря доблестному поведению старика Кандье. Энбо слушал, качал головой, но ничего не понимал; мысли его оставались в той комнате, наверху. Наконец он всех отпустил, оказав, что примет меры. Оставшись один за письменным столом, он словно задремал, опустив голову на руки и закрыв глаза. Только что полученные письма лежали на столе. Он решился посмотреть, нет л» ожидаемого известия, ответа администрации. Сначала строчки прыгали перед его глазами. Однако он понял, что эти господа ничего не имеют против небольшой драки. Конечно, обострять положение не рекомендовалось, но директору давали понять, что усилившиеся беспорядки вызовут энергичное подавление и забастовке будет положен конец. С этого момента Энбо перестал колебаться и разослал телеграммы во все стороны — префекту в Лилль, командиру воинской части в Дуэ, в маршьеннскую жандармерию. Это его облегчило: он мог запереться у себя дома, объявив, что у него приступ подагры, в полной уверенности, что слух об этом немедленно распространится. После полудня он скрылся в свой кабинет, никого не принимая, ограничившись чтением писем и телеграмм, — сыпавшихся дождем. Таким образом, он мог следить за забастовщиками — от Мадлены до Кручины, от Кручины до Победы, оттуда — до Гастон-Мари. С другой стороны, к нему поступали сведения о растерянности жандармов и драгун: их просто сбивали с дороги, и они все время направлялись в обратную сторону от тех шахт, которые подверглись нападению. Не все ли равно, — пусть убивают, разрушают… Энбо опять опустил голову на руки, закрыл пальцами глаза и погрузился в свое горе. Кругом царило молчание, опустевшего дома; лишь изредка долетал стук кастрюль: это кухарка готовила обед; работа у нее так и кипела.
В комнате уже сгущались сумерки; было пять часов; вдруг сильный шум заставил вскочить Энбо, все еще сидевшего в оцепенении, положив локти на бумаги. Он подумал, что это вернулись оба изменника. Но шум все увеличивался, и в ту минуту, как Энбо подходил к окну, раздался ужасный крик:
— Хлеба! Хлеба! Хлеба!
Это забастовщики ворвались в Монсу. А жандармы, думая, что они идут на Воре, поскакали туда защищать шахту.
А в двух километрах от первых домов, немного дальше перекрестка, где большое шоссе пересекает Вандамскую дорогу, г-жа Энбо и барышни смотрели на шествие толпы. День в Маршьенне прошел весело: приятный завтрак у директора литейного завода, потом интересное посещение мастерских и соседнего стекольного, заполнившее время после полудня. И когда ясным зимним вечером они уже возвращались, Сесиль вздумала выпить чашку молока на маленькой ферме у дороги. Все вышли из коляски; Негрель легко спрыгнул с лошади; фермерша, смущенная таким блестящим обществом, засуетилась, хотела накрыть стол. Жанна и Люси, желая посмотреть, как доят коров, отправились в стойло даже с чашками в руках, — это вполне подходило к пикнику; обе хохотали, что ноги их тонут в подстилке.
Г-жа Энбо, как всегда матерински-снисходительная, пригубила молоко, но вдруг заволновалась: на улице послышались странные крики.
— Что это?
Коровник стоял на краю дороги, ворота его были так широки, что в них мог въехать воз: хлев служил одновременно и сеновалом. Барышни, вытянув шеи, с изумлением смотрели, как слева вдруг повалил черный поток беспорядочной толпы, с воплем запруживая Вандамскую дорогу.
— Черт побери! — проворчал Негрель, выходя. — Наши крикуны, кажется, не на шутку рассердились.
— Это, наверное, углекопы, — сказала фермерша. — Они тут уже два раза проходили. Что-то неладно; они так хозяйничают…
Она осторожно роняла каждое слово, поглядывая, какое оно производит впечатление. Увидав на лицах испуг от предстоящей встречи, она поспешно прибавила:
— Ишь, оборванцы, голытьба какая!
Негрель, поняв, что возвращаться в Монсу слишком поздно, приказал кучеру закатить коляску во двор фермы и скрыть весь выезд за сараем. Свою лошадь, которую мальчишка держал за повод, он собственноручно привязал под навесом. Вернувшись, он увидел, что его тетка и девицы, крайне растерянные, уже собирались спрятаться в доме фермерши. Но Негрель считал, что в коровнике они в большей безопасности: никому не придет в голову искать их в сене. Ворота, однако, запирались плохо, сквозь щели и подгнившие доски можно было видеть дорогу.
— Мужайтесь! — сказал он. — Дешево мы не отдадим свою жизнь.
Эта шутка лишь усилила страх. Шум возрастал, хотя ничего не было видно; только казалось, что на пустой дороге уже свистел буйный ветер, предвестник урагана.
— Нет, нет, я не хочу на них смотреть, — проговорила Сесиль, уходя на сеновал.
Г-жа Энбо, очень бледная, возмущенная этими людьми, которые портили ей удовольствие, держалась позади, посматривая на всех искоса и пренебрежительно. Люси и Жанна дрожали от страха, но все же глядели в щелку, чтобы ничего не упустить из необычного зрелища.
Раскаты грома приближались, земля словно сотрясалась. Первым показался бежавший вприпрыжку Жанлен; он трубил в свою трубу.
— Где же ваши флаконы? Понесло потом народным! — прошептал Негрель.
Несмотря на свои республиканские убеждения, он любил подтрунивать перед дамами над рабочими. Но его острота пропала даром: несся настоящий ураган жестов и криков. Появились женщины, около тысячи женщин; волосы их были растрепаны от ветра и ходьбы; в прорехах лохмотьев виднелось голое тело — нагота самок, которые устали носить и рожать бедняков, обреченных на голодную жизнь. Некоторые держали на руках своих младенцев; они поднимали их и размахивали ими, как знаменем скорби в мести; более молодые, воинственно выпячивая грудь, грозили палками, а старухи, подобные фуриям, вопили так громко, что казалось, вот-вот лопнут жилы на их тощих шеях. За ними шли мужчины, тысячи две обезумевших людей: подручные, забойщики, ремонтные рабочие; вся эта масса катилась единой глыбой, до такой степени слитой, сжатой, что в этом безликом землистом скопище нельзя было различить ни полинялых штанов, ни рваных курток. Глаза сверкали, виднелись одни зияющие черные рты, поющие «Марсельезу», строфы которой терялись в смутном, вое, под аккомпанемент сабо, ударяющих о мерзлую землю. Поверх голов, между щетинами железных болтов, блеснул топор; острый профиль этого единственного топора, как знамя, рисовался на светлом небе, подобно лезвию гильотины.