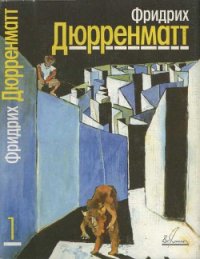Избранное - Дюрренматт Фридрих (бесплатные книги онлайн без регистрации txt) 📗
(Прокурор, защитник, палач и Симона:
— Йю-хо! Йю-хо! Ур-ра!
Трапс, всхлипывая от умиления:
— Спасибо, дорогой судья, спасибо!)
…хотя юридически приговор основан всего-навсего лишь на том, что осужденный сам признал себя виновным. Это, в конце концов, главное. И он рад, что вынес приговор, который беспрекословно принят осужденным (человеческому достоинству не требуется жалости), так пусть их уважаемый, дорогой гость с той же радостью встретит увенчание своего поступка, которое, как он, судья, надеется, последует при не менее приятных обстоятельствах, чем само убийство. То, что у обывателя, у заурядного человека проявляется случайно, при каком-нибудь несчастье или в силу природной неизбежности, как болезнь, закупорка кровеносного сосуда эмболом, злокачественная опухоль, здесь выступает как неизбежный нравственный итог, только здесь логически, подобно произведению искусства, завершается жизнь, только здесь человеческая трагедия становится зримой, озаряется яркой вспышкой, принимает безупречные формы, завершается…
(Возгласы: — Хватит! Кончайте!)
…да, можно сказать со спокойной душой: только в акте объявления приговора, который превращает обвиняемого в осужденного, воплощен рыцарский обряд правосудия. Нет ничего более возвышенного, чем когда человека приговаривают к смерти! И вот это случилось. Трапс, пожалуй, не совсем законный счастливчик — ведь, в сущности, допускается лишь условная смертная казнь, однако он, судья, отказывается от условности, дабы не разочаровывать их милейшего приятеля, короче, Альфредо своей мастерской игрой заслужил, чтобы его как равного и достойного партнера приняли в их коллегию и т.д.
(Остальные: — Шампанского!)
Пирушка достигла зенита! Пенилось шампанское, ничто не омрачало веселого, безоблачного настроения и взаимной братской симпатии, которой проникся даже защитник. Свечи догорали, некоторые уже погасли. На улице чуть забрезжило, где-то далеко всходило еще невидимое солнце, поблекли звезды, повеяло свежестью и росой. Разомлевший, умиленный Трапс почувствовал усталость и попросил, чтобы его проводили в его комнату; шатаясь, он валился в объятия то к одному, то к другому, все были пьяны, языки заплетались, в гостиной стоял гвалт, произносились бессвязные монологи, так как никто никого не слушал. От всех пахло красным вином и сыром. Генеральный представитель стоял, как ребенок в кругу дедушек и дядюшек, и его, счастливого, полусонного, гладили по головке, обнимали и целовали. Лысый молчун повел его наверх. С огромным трудом, на четвереньках они начали подъем по лестнице, но на середине марша застряли, запутавшись друг в друге, и повалились, будучи не в силах двигаться дальше. Сверху, из окна, падал серокаменный свет, сумерки смешивались с белизной стен, в дом проникали первые звуки наступающего дня, с далекого вокзальчика донеслись свистки и прочий станционный шум, смутно напомнивший Трапсу о доме, куда он мог вернуться еще вчера. Он был счастлив, он ничего больше не желал, что еще ни разу не бывало с ним в его заурядной жизни. В сознании всплывали неясные картины: лицо мальчика (наверное, его младшего, самого любимого), потом окраина деревни, куда он попал из-за аварии, светлая лента шоссе, перекинувшаяся через небольшой холм, церковь на пригорке, могучий дуб с подпорками и железными обручами, лесистые холмы, а над ними, вокруг, везде, без конца — необъятное сияющее небо. Тут Пиле обессиленно пробормотал: «Хочу спать, спать, устал, устал» — и, уже засыпая, расслышал только, что Трапс пополз дальше наверх.
Через некоторое время, когда раздался грохот упавшего стула, Лысый очнулся — на секунду, не более, — весь во власти снов и воспоминаний о чем-то страшном, кошмарном, и тут же опять забылся, не заметив путаницы ног над собой — остальные коллеги перелезали через него, поднимаясь по лестнице. Перед этим они, кряхтя и повизгивая, нацарапали на листе пергамента смертный приговор, составленный в необычайном хвалебном тоне, с остроумными оборотами, учеными фразами (латынь и древненемецкий), а затем решили отправиться к спящему генеральному представителю и положить свое творение ему на кровать в качестве сувенира о грандиозной попойке, чтобы гость, проснувшись, отдался приятным воспоминаниям. Наступило раннее утро, звонко и нетерпеливо защебетали птицы.
Итак, все трое перебрались через спящего Пиле. Держась друг за друга, они преодолевали ступеньку за ступенькой; лестничный поворот, где неизбежно образовался затор, им удалось преодолеть с нескольких попыток: разбег, бросок, отход и снова бросок. Наконец они очутились перед комнатой гостя. Судья открыл дверь, и вся торжественная делегация — прокурор так и не снял еще салфетки — застыла на пороге: в оконной нише темным неподвижным силуэтом на тусклом серебре неба, в густом запахе роз, висел Трапс, так окончательно и бесспорно, что прокурор, в монокле которого отражался стремительно наступающий день, судорожно глотнул воздух, прежде чем в смятении и скорби о потерянном друге с болью вскричал:
— Альфредо, мой добрый Альфредо! Да что же ты натворил, господи! Ведь ты испортил нам лучший вечер!
Лунное затмение
В середине зимы, перед самым Новым годом, через деревню Флётиген, лежащую у подножия горы, откуда начинался подъем в горную долину Флётенбах, проехал огромный «кадиллак», с шумом пропахав широким брюхом заснеженную улицу, и остановился у гаража, возле ремонтных мастерских,
Из машины с трудом вылез Уолт Лачер, двухметровый колосс с мощным квадратным торсом, прибывший вместе со своим «кадиллаком» чартерным21 рейсом из Канады в Швейцарию, в Клотен, — шестидесяти пяти лет от роду, с кудрявыми седыми волосами, всклокоченной седой бородой с пучками черных волос, в меховой шубе и унтах.
— Цепи, — бросил он хозяину гаража и спросил, не глядя, не сын ли он Виллу Граберу.
— Младший, — ответил тот, — пораженный, что заморский великан говорит на бернском диалекте, да еще с флётенбахским выговором. Грабера уже больше тридцати лет нет в живых. Он что, знал его отца?
— Да, он продавал велосипеды, — ответил Лачер.
Хозяин гаража посмотрел на него недоверчиво.
— Куда вам? — спросил он наконец.
— Наверх, в долину, — сказал Лачер.
Наверх он, да еще с цепями, не проедет, проворчал хозяин, эти чудики с горы отказались оплатить снегомет, к ним даже почтовый автобус не ходит.
— Все равно давай цепи, — приказал Лачер, топчась в меховых унтах по рыхлому снегу, пока Грабер возился с цепями. Расплатившись, он втиснулся в «кадиллак» и тронулся наверх, в долину, мимо ребятишек, катавшихся на салазках с горы, мимо последних дворов, уже чувствуя, как заносит машину. Чуть только дорога стала выравниваться, он нажал на газ и тут же сшиб крылом телеграфный столб, тот, хрустнув, переломился пополам, а «кадиллак» опять вырулил на дорогу — та круто поднималась в гору и уходила в лес; на одном из поворотов машина, несмотря на цепи, сползла с крутого склона и прочно застряла в мягком снегу.
Лачер пробует выбраться из машины — метровой глубины снег мешает ему открыть дверцу — и тут же проваливается по пояс. Он карабкается по склону к дороге, срывается вниз, опять лезет наверх и, почувствовав ногами дорогу, отряхивается, снег сыплется с шубы.
Он упрямо месит рыхлый снег, дорогу местами совершенно не видно. Белые ели с прогнувшимися от тяжести лапами срослись по обеим сторонам в сплошную бесформенную снежную массу. Лачер шагает как в разломе глетчера. Небо над ним искрится и сверкает холодным серебром. Он обо что-то спотыкается, падает, встает, выуживая из-под снега то, обо что споткнулся, — в руках у него труп, он встряхивает его, сбрасывая снег; остекленевшими глазами глядит на него старик с заиндевевшим лицом и белой обледеневшей щетиной. Лачер бросает труп и шагает дальше, доходит до прогалины — на макушках елей кровавые блики уходящего за черную гору солнца, но небо еще в светлых отблесках, только под ели легли густые сине-черные тени. Дорогу перебежала косуля, ей тоже трудно в глубоком снегу, за ней вторая — смотрит на него застывшими в смертельном страхе круглыми блестящими глазами. Лачер почти доходит до нее, и тогда она бесшумно исчезает в лесу. Придавленный снегом кустарник преграждает ему дорогу. Лачер продирается сквозь него, превращаясь в огромного снеговика, выйдя, отряхивается, пытаясь сбросить с себя обрушившиеся на него горы снега. Все вокруг плывет в сумеречном свете — снеговые шапки на елях, только что сверкавшие льдинками и теперь быстро погрузившиеся в темноту неба. В одном месте Лачер, поскользнувшись, сползает по склону вниз, налетает с размаху на здоровенную ель, обрушивая на себя лавину снега, и теряет не меньше получаса, прежде чем вновь выбирается на дорогу. Он напрягается из последних сил, дыхание его вырывается клубами горячего пара, кромешная тьма заливает все вокруг, он пробивается как сквозь снежную стену, ничего не видя и не различая, и вдруг ощущает свободу.