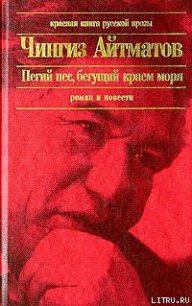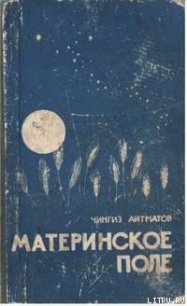И дольше века длится день - Айтматов Чингиз Торекулович (онлайн книги бесплатно полные txt) 📗
— И что вам дались эти слоны, едигеевский Буранный Каранар чем хуже слона? Нагрузи — так он прет, как слон!
— И то верно, — засмеялись вокруг.
— Да что слон! — откликнулся еще голос. — Слон-то только в жарких странах может жить. А попробуй у нас по сарозекам зимой. Слон твой и копыта откинет, куда ему до Каранара!
— Слушай, Едигей, слушай, Буранный, а почему бы тебе не соорудить такую же будку на Каранаре, как в Индии на слонах? И будешь себе ездить, как тамошний богач!
Едигей посмеивался. Подшучивали над ним друзья, но все же лестно было слышать такие слова о своем знаменитом атане…
Зато перепало Едигею той зимой, попереживал, погоревал из-за того же Каранара…
Но это случилось уже с холодами. А в тот день застиг его в пути первый снегопад. Снежок и до этого сыпал несколько раз и быстро таял. А тут зарядил, да еще как! Сомкнулось небо над сарозеками сплошным мраком, ветер закрутил. Густо, тяжело повалил снег белыми кружащимися хлопьями. Не холодно было, но мокро и неуютно. А главное — не различить ничего вокруг из-за снега. Что было делать? В сарозеках нет попутных пристанищ, где можно было бы переждать непогоду. Оставалось одно — положиться на силу и чутье Буранного Каранара. Он-то должен был привезти к дому. Едигей предоставил атану полную волю, а сам поднял воротник, нахлобучил шапку, укрылся капюшоном и терпеливо сидел, тщетно стараясь что-то различить по сторонам. Непроглядная завеса снега, и только. А Каранар шел в той круговерти, не сбавляя шага и, должно быть, понимая, что хозяин сейчас ему не хозяин, потому и примолк, затих на вьюках и ничем уже не проявлял себя. Великой силой должен был обладать Каранар, чтобы с таким грузом бежать в степи по снегопаду. Могуче, жарко дышал, неся на себе хозяина, и кричал, рявкал, как зверь, а то завывал подолгу тягучим дорожным гудом и все шел неутомимо и безостановочно сквозь летящий навстречу снег…
Немудрено — слишком длинным показался Едигею тот путь. «Скорей бы уж добраться», — думал он и представлял себе, как заявится и что дома наверняка беспокоятся, что с ним в такую непогоду. Укубала тревожится о нем, только не скажет об этом вслух. Она не из тех, кто выкладывает все, что в мыслях. Может быть, и Зарипа думает, что с ним? Конечно, думает. Но она тем более звука не проронит, старается как можно меньше попадаться ему на глаза и избегает всяческих разговоров наедине. А что избегать, что, собственно, плохого такого произошло? Ведь ни словом, ни поступком каким не дал он, Едигей, повода к тому, чтобы кто-то мог подумать, будто что-то здесь не так. Как было прежде, так и есть. Просто они, оказавшись попутчиками в жизни, словно бы оглянулись вдруг, той ли дорогой идут… И снова пошли. Вот н все. А каково приходится ему при этом, это уж его беда… Это его судьба — на роду, должно быть, так написано, что разрываться суждено как между двух огней. И пусть то никого не тревожит, это его дело, как быть с самим собой, с душой своей многострадальной. Кому какое дело, что с ним и что его ждет впереди! Не малое дитятко он, как-нибудь разберется, сам развяжет тугой узел, который затягивался все туже по его же вине…
Это были страшные мысли, мучительные и безысходные. Вот уже зима вступила в сарозеки, а он по-прежнему не мог ни забыть Зарину, ни отказаться хотя бы мысленно от Укубалы. На беду свою, он нуждался в обеих сразу, и они, вероятно, видя и зная это, не пытались торопить события, чтобы помочь ему побыстрей определиться. Внешне все обстояло как всегда — ровные отношения между женщинами, детвора обоих домов, как общая семья, вместе росла, постоянно вместе играли их дети на разъезде — то в том доме, то в этом… Так прошло лето, и так минула осень…
Сиротливо и неприютно чувствовал себя Буранный Едигей в одиночестве среди снегопада. Мело, безлюдье кругом. Каранар то и дело стряхивал с головы налипающие комья снега и будил на бегу тишину рыком и выкликами. Худо было хозяину в том пути. Едигей ничего не мог поделать с собой, никак не удавалось ему успокоить, определить себя на чем-то одном, бесспорном и безусловном. Не мог начистоту открыться перед Зарипой, не мог отречься и от Укубалы. И тогда он начинал поносить, ругать себя последними словами: «Скотина! Хайван что ты, что твой верблюд! Сволочь! Собака! Дурья голова!» — и еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, одуматься, остановиться… Но ничто не помогало… И был он что тот оползень, стронувшийся с места… Единственная отрада, которая ждала его, были дети. Они безоговорочно принимали его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых проблем. В чем помочь, что подвезти, что приладить по дому — это он для них готов был всегда с великим удоволь-ствием, как и сейчас картошку вез им на зиму в двух огромных мешках, навьюченных на Каранара. Топливо тоже было запасено…
Мысли о детях были прибежищем для Едигея, там он оказывался в полном ладу с самим собой. Он представлял, как доберется до Боранлы-Буранного, как выбегут мальчишки из дома, заслышав его приезд, и не загонишь их назад, хотя снег идет, и будут прыгать вокруг с громкими криками: «Дядя Едигей приехал! На Каранаре! Картошку привез!» — и то, как строго и властно прикажет он верблюду лечь ничком на землю и тогда, весь заснеженный, слезет с Каранара, отряхиваясь и успевая между делом погладить детишек по головам, и как затем начнет разгружать мешки с картошкой и поглядывать, а не появится ли возле Зарипа, если она дома, он ей ничего не скажет особенного, да и она не скажет, он только посмотрит ей в лицо и будет тем доволен — и опять занедужит, закручинится, так что ж, куда от этого денешься, а ребятишки будут крутиться возле, путаться под руками, то и дело опасливо подбегая к нему, боясь верблюжьего рыка, и, преодолевая страх, будут пытаться ему помочь, и это принесет ему вознаграждение за все муки…
Внутренне он готовился к скорой встрече с Абуталиповыми ребятами, заранее думал: а что расскажет он им в этот раз, своим, как он их называл, ненасытным слухачам? Опять об Аральском море? Самые любимые рассказы — всякие случаи на море, которые они домысливают затем с непремен-ным участием отца и тем самым продолжают, сами того не ведая, держать связь с ним, с памятью о нем… Только вот все, что знал и слышал Едигей о морской жизни, истощилось, все уже много раз им было сказано и пересказано, кроме разве что истории с золотым мекре. А как поведать эту историю? Кому ее объяснить, кроме как самому себе, знающему, что стоит за давнишним тем событием.
Так проделывал он путь в тот снегопадный день. Всю дорогу не покидали его сомнения, размыш-ления… И всю дорогу шел снег…
С того снега и зима легла в сарозеках, ранняя и студеная с первых шагов.
С началом холодов снова пришел в неистовство Буранный Каранар, снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовая сила, и уже ничто и никто не мог посягать на его свободу. Тут и самому хозяину в пору было отступиться, не лезть на рожон…
На третий день после снегопада промело сарозеки метельным морозным ветром, и встала сразу, как пар, напряженная мглистая стынь над степью. Далеко и отчетливо слышались по стуже скрипучие шаги, любой звук, любой шорох разносился с предельной ясностью. Поезда на перегоне слышались за многие километры. А когда на рассвете услышал Едигей спросонья трубный рев Буранного Каранара в загоне и то, как он топтал-ся и расшатывал со скрежетом изгородь за домом, понял, какая напасть снова пожаловала ко двору. Быстро оделся, вышел впотьмах, пошел к загону и раскричался, колюче обдирая глотку морозным вяжущим воздухом:
— Ты чего! Ты чего, опять конец света? Опять за свое? Опять кровь мою пить! Ах ты хайван! Замолчи! Заткнись, говорю! Что-то ты рано больно в этом году решил заняться этим делом. Не насмешил бы народ!
Но напрасно он тратил слова на ветер. Обуреваемый пробудившейся страстью верблюд не думал считаться с ним. Он требовал своего, он орал, фыркал, устрашающе скрипел зубами, ломал загон.