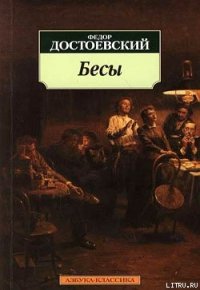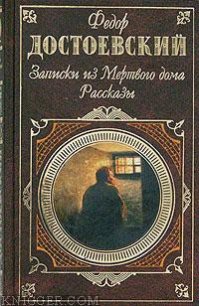Преступление и наказание - Достоевский Федор Михайлович (книги без регистрации .TXT) 📗
— Это вы от Капернаумова нанимаете?
— Да-с…
— Они там, за дверью?
— Да… У них тоже такая же комната.
— Все в одной?
— В одной-с.
— Я бы в вашей комнате по ночам боялся, — угрюмо заметил он.
— Хозяева очень хорошие, очень ласковые, — отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись и не сообразившись, — и вся мебель, и все… все хозяйское. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят…
— Это косноязычные-то?
— Да-с… Он заикается и хром тоже. И жена тоже… Не то что заикается, а как будто не все выговаривает. Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. А детей семь человек… и только старший один заикается, а другие просто больные… а не заикаются… А вы откуда про них знаете? — прибавила она с некоторым удивлением.
— Мне ваш отец все тогда рассказал. Он мне все про вас рассказал… И про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятом назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла Соня смутилась.
— Я его точно сегодня видела, — прошептала она нерешительно.
— Кого?
— Отца. Я по улице шла, там подле, на углу, в десятом часу, а он будто впереди идет. И точно как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ивановне…
— Вы гуляли?
— Да, — отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и потупившись.
— Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то?
— Ах нет, что вы, что вы это, нет! — с каким-то даже испугом посмотрела на него Соня.
— Так вы ее любите?
— Ее? Да ка-а-ак же! — протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. — Ах! вы ее… Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок… Ведь у ней ум совсем как помешан… от горя. А какая она умная была… какая великодушная… какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете… ах!
Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее.
— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете… Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная… Она справедливости ищет… Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует… И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается… Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!
— А с вами что будет?
Соня посмотрела вопросительно.
— Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде все было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну, а теперь вот что будет?
— Не знаю, — грустно произнесла Соня.
— Они там останутся?
— Не знаю, они на той квартире должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется.
— С чего ж это она так храбрится? На вас надеется?
— Ах нет, не говорите так!… Мы одно, заодно живем, — вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. — Да и как же ей быть? Ну как же, как же быть? — спрашивала она, горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней ум мешается, вы этого не заметили? Мешается; то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра все прилично было, закуски были и все… то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится, на вас она все надеется: говорит, что вы теперь ей помощник и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город, со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает, и ведь так верит! так верит фантазиям-то! Ну разве можно ей противоречить? А сама-то весь-то день сегодня моет, чистит, чинит корыто сама, с своею слабенькою-то силой, в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель; а то мы в ряды еще с ней утром ходили, башмачки Полечке и Лене купить, потому у них все развалились, только у нас денег-то и недостало по расчету, очень много недостало, а она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус есть, вы не знаете… Тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что недостало… Ах, как было жалко смотреть.
— Ну и понятно после того, что вы… так живете, — сказал с горькою усмешкой Раскольников.
— А вам разве не жалко? Не жалко? — вскинулась опять Соня, — ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали еще ничего не видя. А если бы вы все-то видели, о господи! А сколько, сколько раз я ее в слезы вводила! Да на прошлой еще неделе! Ох, я! Всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько раз я это делала. Ах как теперь целый день вспоминать было больно!
Соня даже руки ломала говоря, от боли воспоминания.
— Это вы-то жестокая?
— Да я, я! Я пришла тогда, — продолжала она плача, — а покойник и говорит: «прочти мне, говорит, Соня, у меня голова что-то болит, прочти мне… вот книжка», у Лебезятникова, тут живет, он такие смешные книжки все доставал. А я говорю: «мне идти пора», так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное чтоб воротнички показать Катерине Ивановне; мне Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились: «подари мне, говорит, их, Соня, пожалуйста». Пожалуйста попросила, и уж так ей хотелось. А куда ей надевать? Так: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя в зеркало, любуется, и никаких-то, никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет! И ничего-то она никогда ни у кого не попросит; гордая, сама скорей отдаст последнее, а тут вот попросила, — так уж ей понравились! А я и отдать пожалела, «на что вам, говорю, Катерина Ивановна?» Так и сказала, «на что». Уж этого-то не надо было бы ей говорить! Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это было жалко смотреть… И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела. Ах, так бы, кажется, теперь все воротила, все переделала, все эти прежние слова… Ох, я… да что!… вам ведь все равно!
— Эту Лизавету торговку вы знали?
— Да… А вы разве знали? — с некоторым удивлением переспросила Соня.
— Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, — сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.
— Ох, нет, нет, нет! — И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы нет.
— Да ведь это ж лучше, коль умрет.
— Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! — испуганно и безотчетно повторяла она.
— А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?
— Ох, уж не знаю! — вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только вспугнул опять эту мысль.
— Ну а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболеете и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? — безжалостно настаивал он.
— Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! — и лицо Сони искривилось страшным испугом.
— Как не может быть? — продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, — не застрахованы же вы? Тогда что с ними станется? На улицу всею гурьбой пойдут, она будет кашлять и просить, и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать… А там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети…
— Ох, нет!… Бог этого не попустит! — вырвалось наконец из стесненно груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него все и зависело.
Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.