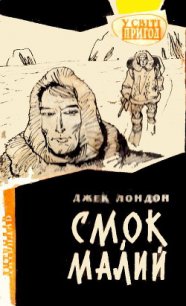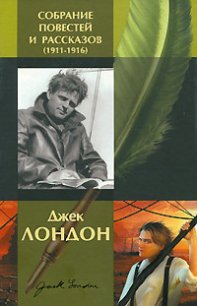Смок Беллью. Смок и Малыш. Принцесса - Лондон Джек (читать хорошую книгу .TXT) 📗
Тагалаги — самый унылый остров, который я когда-либо видел. Вулканический конус, выброшенный из морской глубины, с глубоким кратером. В этот кратер есть доступ с моря. Получилась прекрасно защищенная гавань. Вот и все. Жизни там нет никакой. Стороны кратера — как внешняя, так и внутренняя — слишком круты. В одном месте на берегу растет около тысячи кокосовых пальм. Кроме двух-трех пород насекомых, ничего нет. Ни одного четвероногого, даже крысы. И как это смешно, что столько кокосовых пальм, и ни одного краба. Единственной живностью гавани были головли, плавающие стайками, — самые жирные, самые большие, самые красивые, каких я когда-либо видел.
И вот мы четверо высаживаемся на таком берегу и раскладываем среди кокосовых пальм свое хозяйство, состоящее из ящиков с динамитом и джином. Неужто это не смешно? Смешно, говорю вам! Голландский джин и кокосовые орехи, и ничего больше. С того времени я не могу смотреть без отвращения на сласти, выставленные в витринах кондитерских. Я не так хорошо знаком с религиозными вопросами, как Чонсей Делярауз, но все же имею о них кое-какие примитивные представления. И когда думаю об аде, то он всегда представляется мне безграничной плантацией кокосовых пальм с разбросанными по ней ящиками с джином, населенной моряками, потерпевшими кораблекрушение. Смешно? Сам дьявол взвыл бы при виде этого!
Вы знаете, что чистый кокосовый орех земледельцы называют пищей, которая не дает равновесия, и действительно — он вывел из равновесия наши желудки. А потому, когда голод особенно сильно впускал в нас свои зубы, мы принимались за джин. Недели через две нашего матроса Олафа осенила некая мысль. Она пришла ему в голову, когда он был переполнен джином, и мы, будучи в том же состоянии, только наблюдали за тем, как он приготовил короткий фитиль и динамит, а затем зашагал к лодке.
Мне стало ясно, что он пошел бить рыбу. Солнце жгло нестерпимо, и я разлегся отдохнуть в надежде, что Олафа ждет удача.
Час спустя после его ухода мы услышали взрыв. Но Олаф не возвращался. Мы подождали до наступления вечерней прохлады, и тогда нашли на берегу то, что от него осталось. Лодка была цела, ветер ее прибил к берегу, но Олафа в ней не было. Ему уже не придется лакомиться кокосовыми орехами! Мы вернулись еще более удрученными и снова хватили джину.
На следующий день повар заявил нам, что он предпочитает попытать счастья с динамитом, чем поддерживать свое существование кокосовыми орехами. Мы дали ему патрон, вложили фитиль, нашли хорошую головешку, и он хватил на дорогу добрую порцию джина…
Программа была та же, что и вчера. Через некоторое время мы услышали взрыв, а в сумерки спустились на берег и вытащили из лодки останки повара, чтобы похоронить.
Мы с плотником крепились два дня. Затем бросили жребий: очередь была за ним. Расстались мы не очень-то по-доброму: он хотел взять с собою джина, но я восстал против такого неумеренного расходования спиртного. Кроме того, он уже выпил гораздо больше того, чем следовало, и, уходя, выписывал вензеля и шатался из стороны в сторону.
Случилось то же самое. Только на этот раз мне пришлось похоронить целое тело, потому что повар пустил в дело половину динамитного патрона. Я терпел до следующего дня. А затем, подбодрив себя надлежащим образом, приготовил динамит для взрыва. Взял я только треть палочки — понимаете, короткую палочку с расщепленным концом, в который можно было вставить безопасную спичку. Таким образом, я усовершенствовал метод моих предшественников — они не употребляли спички, им приходилось иметь дело с большим фитилем. Следовательно, когда они замечали стайку головлей и зажигали фитиль, им надо было держать динамитную палочку в руках до тех пор, пока фитиль не доходил до самого динамита. Если они бросали палочку слишком рано, то она не взрывалась в тот момент, когда ударялась об воду, и плеск распугивал головлей. Забавная штука динамит! Во всяком случае, я настаиваю на том, что мой метод безопаснее.
Не проплыв и пяти минут, я выследил стайку головлей. Рыба была большая, жирная, я уже чувствовал, какой у нее будет запах, когда я поджарю ее на огне. Когда я встал, держа спичку в одной руке, а динамитную палочку в другой, у меня затряслись колени. Может быть, это произошло от джина, а может быть, от волнения, слабости или голода, но во всяком случае я весь дрожал. Я дважды хотел зажечь спичку и не мог. Затем я зажег спичку головней.
Я не знаю, что случилось с другими, но знаю, что было со мной. Я растерялся. Случалось ли вам когда-либо, сорвав стебелек земляники, бросить ягоду, а стебелек машинально сунуть в рот? То же самое произошло со мной. Головешку я бросил в воду, палочку же динамита продолжал держать в руке. И моя рука отлетела вместе с палочкой, когда та…
Тощий поглядел, есть ли в жестянке от томатов вода для составления смеси, но воды в ней не оказалось. Он встал.
— Так-то, — зевнул он и пошел к речке.
Спустя несколько минут он вернулся, смешал должное количество грязной воды со спиртом и, медленно выпив смесь, стал мрачно и презрительно смотреть на огонь.
— Да… Но… — сказал Толстяк. — А что же было дальше?
— Гм! — сказал Тощий. — Принцесса, конечно, вышла за меня замуж.
— Но ведь ты остался один и никакой принцессы не было… — отрывисто воскликнул Бородач, но, спохватившись, погрузился в неловкое молчание.
Тощий пристально, немигающим взором смотрел на огонь. Персиваль Дэланей и Чонсей Делярауз переглянулись. В торжественном молчании каждый своей единственной рукой свернул и завязал свой узелок. И молча, подняв узелки на плечи, оба они вышли из освещенного круга костра. Они молчали, пока не взобрались на железнодорожную насыпь.
— Ни один джентльмен не поступил бы так, — сказал Бородач.
— Ни один джентльмен не поступил бы так, — согласился Толстяк.
Красное божество
Чу! Опять густой звенящий звук! Проверяя по часам промежутки, через которые повторялся этот звук, Бэссет сравнивал его с трубой архангела. Стены городов, думал он, могли бы рухнуть от этого мощного, властного призыва. В тысячный раз он тщетно пытался определить природу и происхождение этого чудовищного раската, наполнявшего окрестности деревушки дикарей. Горное ущелье, из которого исходил грохот, звенело от громоподобных ударов; звуки росли, пока не заполонили собою все, не затопили землю, небо, воздух… Расстроенному, больному воображению Бэссета эти звуки казались могучим криком какого-то титана первозданного мира, воплем ярости и скорби. Выше и выше поднимался звук, повелительный, молящий, с такой силой и глубиной, что, казалось, он предназначался для чьего-то слуха за тесными пределами Солнечной системы. Слышался в нем и вопль протеста, и жалоба на то, что не было такого существа, чье ухо могло бы внимать этому призыву и понимать его.
Так казалось воображению больного человека, анализировавшего это явление. Звук был грозен, как гром, нежен, как золотой колокол, сладостен и чист, как туго натянутая серебряная нить… Нет! Все не то! На языке Бэссета не было таких сравнений, таких слов, какими можно было бы передать характер этого звука.
Время шло. Минуты сливались в часы, а звуки не прекращались: они только меняли свою силу. Но вот, не получив нового толчка, звуки стали замирать — так же величественно, как возникали. Медленно, рыдание за рыданием, угасали они в огромной груди, которая породила их, — умирали с глухими стонами, точно пытаясь рассказать какую-то космическую тайну, сообщить что-то бесконечно важное и ценное. Они упали до намека на звук, утратили свой грозный характер и наконец прекратились. Но что-то трепетало в сознании больного человека, точно бился какой-то пульс в течение нескольких минут. Когда Бэссет уже ничего больше не слышал, он снова взглянул на часы.
Значит, тогда вдали была его темная башня, размышлял Бэссет, вспоминая свои скитания и глядя на свои изможденные лихорадкой руки. Месяцы или годы, спросил он себя, прошли с тех пор, как он услышал этот таинственный зов на берегу Рингману? Каким образом Бэссет спасся, он сам не мог бы сказать теперь. Болезнь терзала его давно. Он знал, что прошло много месяцев, но не мог определить точно, как долго были периоды бреда и оцепенения. А что же случилось с Бэтменом, капитаном негритянского судна «Мари»? И умер ли, наконец, пьяный помощник капитана от белой горячки?