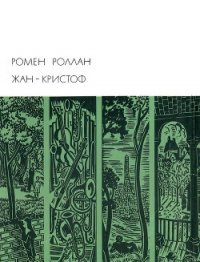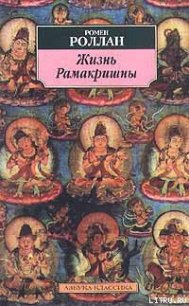Жан-Кристоф. Том IV - Роллан Ромен (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
По другую сторону Рейна, у западных соседей, наоборот, над искусством то и дело проносились мощные ветры коллективных страстей и народных бурь. И, возвышаясь над равниной, точно Эйфелева башня над Парижем, светил вдали неугасимый светильник классической традиции, завоеванной веками трудов и славы, передаваемой из рук в руки, и эта традиция, не порабощая и не подавляя ум, указывала ему путь, проторенный веками, и объединяла весь народ под своим светочем. Многие немцы, словно заблудившиеся во мраке птицы, неслись к этому далекому маяку. Но разве во Франции подозревают о той глубокой симпатии, которая привлекает к ней столько благородных сердец соседнего народа, о множестве честных рук, протянутых к ней, которые не повинны в преступной политике?.. И вы, немецкие братья, вы тоже не видите и не слышите нас. Мы говорим вам: «Вот наши руки. Наперекор лжи и ненависти нас никогда не разлучат. Мы нуждаемся в вас, а вы нуждаетесь в нас, чтобы поддерживать величие нашей мысли и наших народов. Мы два крыла Запада. Кто подбивает одно, нарушает полет другого. Пусть грянет война! Она не разомкнет пожатия наших рук, не остановит взлета нашего братского гения».
Так думал Кристоф. Он сознавал, в какой мере оба народа дополняют друг друга, как их ум, их искусство, их деятельность станут немощны и хромы без взаимной поддержки. Он, уроженец Рейнской области, где сливаются в единый поток обе цивилизации, с детства ощущал необходимость такого союза. В течение всей жизни усилия его гения были бессознательно направлены на то, чтобы поддержать равновесие этих двух могучих крыльев. Чем богаче была его германская фантазия, тем сильнее нуждался он в ясной четкости латинского разума. Вот почему Франция была ему так дорога. Он вкусил здесь радость самопознания и научился обуздывать себя. Только здесь он был по-настоящему самим собой.
Он примирился с теми, кто пытался ему вредить. Он усваивал чуждую ему энергию, сочетая ее со своей. Мощный, здоровый дух поглощает все силы, даже враждебные ему, и претворяет их в свою плоть. А со временем наступает пора, когда человека больше всего привлекает то, что меньше всего похоже на него, ибо это дает ему более обильную пищу.
В сущности, Кристофу доставляли больше удовольствия произведения иных композиторов — его соперников, чем творчество его подражателей, а у него были и подражатели, которые, к великому ужасу Кристофа, выдавали себя за его учеников. Славные ребята, преисполненные почтения к нему, трудолюбивые, достойные, наделенные всеми добродетелями. Кристоф дал бы много, чтобы полюбить их музыку, но (таков уж его удел!) был на это не способен: он считал ее бездарной. В тысячу раз больше его прельщало творчество музыкантов, которые лично были ему неприятны и представляли в искусстве враждебные направления… Что ж из этого? Они, по крайней мере, живут! А жизнь сама по себе такая добродетель, что тот, кто лишен ее, если даже наделен всеми прочими добродетелями, никогда не будет настоящим человеком, потому что он не совсем человек. Кристоф шутя заявлял, что считает своими учениками только тех, кто борется против него. А когда какой-нибудь молодой композитор говорил ему о своем музыкальном призвании и, желая расположить в свою пользу, начинал превозносить его талант, Кристоф спрашивал:
— Значит, моя музыка удовлетворяет вас? Именно так вы намерены выражать вашу любовь или ненависть?
— Да, учитель.
— Тогда лучше молчите! Вам, видно, нечего сказать.
Это отвращение к покорным, к рожденным для повиновения, эта потребность воспринимать новые мысли влекли Кристофа главным образом в те круги, где придерживались взглядов, резко противоположных его взглядам. У него были друзья среди тех, для которых его искусство, его идеалистические взгляды, его моральные принципы представляли собой мертвую букву; они по-иному смотрели на жизнь, любовь, брак, семью, на все общественные взаимоотношения; впрочем, это были хорошие люди, но казалось, что они принадлежат к эпохе других моральных устоев: терзания и сомнения, на которые Кристоф убил часть жизни, были им непонятны. Тем лучше для них! Кристоф вовсе не собирался с ними объясняться. Он не требовал, чтобы окружающие разделяли его убеждения, тем самым подкрепляя их; в своей правоте он и без того был уверен. Он требовал, чтобы его познакомили с другими воззрениями, заставили полюбить людей другой породы. Любить и познавать все больше. Наблюдать и учиться видеть. Теперь он не только допускал чуждый ему образ мыслей, против которого когда-то боролся, но даже радовался этому, ибо, по его мнению, это умножало богатство вселенной. Кристоф любил Жоржа особенно за то, что тот воспринимал жизнь не так трагически, как он. Человечество было бы слишком бедным, слишком серым, если бы рядилось в однообразную форму строгой морали и героического долга, которыми вооружился Кристоф. Человечеству необходима радость, беззаботность, дерзкая непочтительность ко всякого рода кумирам, даже самым священным. Да здравствует «галльское остроумие, оживляющее землю»! Скептицизм и вера равно необходимы. Скептицизм, подтачивая вчерашнюю веру, освобождает место для завтрашней… Все проясняется для человека, по мере того как он удаляется от жизни: точно так же на прекрасной картине, если смотреть издалека, сливаются в чудесной гармонии различные краски, которые вблизи режут глаз.
Глаза Кристофа открылись на бесконечное разнообразие как материального, так и морального мира. Это была одна из его главных побед после первого путешествия в Италию. В Париже он подружился преимущественно с художниками и скульпторами; он считал, что они полнее всего выражают французский гений. С какой победоносной дерзостью они схватывают и запечатлевают мимолетное движение и едва уловимые краски! Они срывают покровы, окутывающие жизнь, заставляя сердце трепетать от восторга. Какие неисчерпаемые богатства таятся в капельке света, в мгновении жизни для того, кто умеет видеть! Разве можно сравнить с этими высшими наслаждениями ума суетный шум споров и грохот войн?.. Но эти споры и даже самые войны тоже являются частью великолепного зрелища Нужно все охватить и мужественно, радостно бросить в пылающее горнило своего сердца силы утверждающие и силы отрицающие, врагов и друзей, весь металл жизни. В конце концов в нас отливается статуя, божественный плод нашего духа, и все, что способствует ее украшению, чудесно, даже если это стоит нам жертв. Разве важно, кто творец? Реально только творение… Враги, стремящиеся нам вредить! Мы недосягаемы, мы неуязвимы для ваших ударов… Вы стреляете мимо цели. Я давно уже не здесь!
Музыка Кристофа приобрела более спокойные формы. То были уже не весенние грозы, которые еще так недавно налетали, разражались и внезапно утихали. То были белые летние облака, снежные и золотые горы, огромные лучезарные птицы, медленно парящие в вышине и застилающие небо… Творчество! Нивы, зреющие под спокойным августовским солнцем…
Сперва смутное и глубокое оцепенение, тайная радость набухших виноградных кистей, тучного колоса, беременной женщины, несущей в себе свой зрелый плод. Гудение органа, жужжание пчел в глубине улья… Из этой тревожной музыки, отливающей золотом, подобно сотам осеннего меда, постепенно выделяется ведущий ритм, вырисовывается хоровод планет, и они начинают вращаться.
Тогда вступает воля. Она вскакивает на спину проносящейся с ржанием мечты и сжимает ее бока коленями. Ум постигает законы увлекающего его ритма; он укрощает мятежные силы, указывая им путь и цель, к которой стремится. Возникает симфония разума и инстинкта. Мрак проясняется. Вдоль уходящей длинной лентой дороги светятся в определенных точках огоньки маяков, которые, в свою очередь, станут в создаваемом творении зародышами маленьких планет, прикованных к центру их солнечной системы…