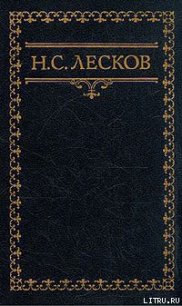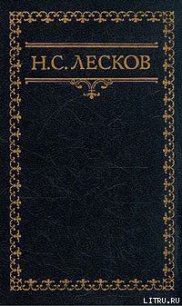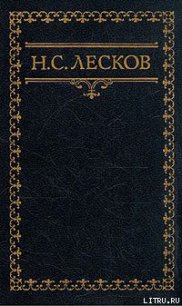Соборяне - Лесков Николай Семенович (книги бесплатно без онлайн .txt) 📗
– Благоразумного уже поздно искать: он похоронен.
Лекарю Пуговкину, которого дьякон некогда окунал и который все-таки оставался его приятелем и по дружбе пришел его утешить и уверять, что он болен и что его надо лечить, Ахилла вымолвил:
– Это ты, друг, правду говоришь: я всеми моими мнениями вокруг рассеян… Размышляю – не знаю о чем, и все… меня… знаешь, мучит (Ахилла поморщился и докончил шепотом) тоска!
– Ну да, у тебя очень возвышенная чувствительность.
– Как ты назвал?
– У тебя возвышенная чувствительность.
– Вот именно чувствительность! Все меня, знаешь, давит, и в груди как кол, и я ночью сажусь и долговременно не знаю о чем сокрушаюсь и плачу.
Приехала навестить его духовная дочь Туберозова, помещица Серболова. Ахилла ей обрадовался. Гостья спросила его:
– Чем же это вы, отец дьякон, разболелись? Что с вами такое сделалось?
– А у меня, сударыня, сделалась возвышенная чувствительность: после отца протопопа все тоска и слезы.
– У вас возвышенные чувства, отец дьякон, – отвечала дама.
– Да… грудь спирает, и все так кажется, что жить больше незачем.
– Откуда вы это взяли, что вам жить не надо?
– А пришли ко мне три сестрицы: уныние, скука и печаль, и все это мне открыли. Прощайте, милостивая государыня, много ценю, что меня посетили.
И дьякон выпроводил ее, как выпроваживал всех других, и остался опять со своими «тремя сестрицами» и возвышенною чувствительностью.
Но вдруг произошло событие, по случаю которого Ахилла встрепенулся: событие это была смерть карлика Николая Афанасьевича, завещавшего, чтоб его хоронили отец Захария и Ахилла, которым он оставил за то по пяти рублей денег да по две пары чулок и по ночному бумажному колпачку своего вязанья.
Возвратясь с похорон карлика, дьякон не только как бы повеселел, а даже расшутился.
– Видите, братцы мои, как она по ряду всю нашу дюжину обирать зачала, – говорил он, – вот уже и Николай Афанасьевич помер: теперь скоро и наша с отцом Захарией придет очередь.
И Ахилла не ошибался. Когда он ждал ее встречи, она, милостивая и неотразимая, стояла уже за его плечами и приосеняла его прохладным крылом своим.
Хроника должна тщательно сберечь последние дела богатыря Ахиллы – дела, вполне его достойные и пособившие ему переправиться на ту сторону моря житейского в его особенном вкусе.
Глава тринадцатая
Старгород оживал в виду приближения весны: река собиралась вскрыться, синела и пучилась; по обоим берегам ее росли буяны кулей с хлебом и ладились широкие барки.
Из голодавших зимой деревень ежедневно прибывали в город толпы оборванных мужиков в лаптях и белых войлочных колпачках. Они набивались в бурлаки из одних податей и из хлеба и были очень счастливы, если их брали сплавлять в далекие страны тот самый хлеб, которого недоставало у них дома. Но и этого счастья, разумеется, удостоивались не все. Предложение труда далеко превышало запрос на него. Об этих излишних людях никто не считал себя обязанным заботиться; нанятые были другое дело: о них заботились. Их подпускали к пище при приставниках, которые отгоняли наголодавшихся от котла, когда они наедались в меру. До отвала наголодавшимся нельзя давать есть; эти, как их называют, «жадники» объедаются, «не просиживают зобов» и мрут от обжорства. Недавно два такие голодные «жадника» – родные братья, рослые ребята с Оки, сидя друг против друга за котлом каши, оба вдруг покатились и умерли. Лекарь вскрыл трупы и, ища в желудке отравы, нашел одну кашу; кашей набит растянутый донельзя желудок; кашей набит был пищевод, и во рту и в гортани везде лежала все та же самая съеденная братьями каша. Грех этой кончины падал на приставника, который не успел вовремя отогнать от пищи наголодавшихся братьев «жадников». Недосмотр был так велик, что в другой артели в тот же день за обедом посинели и упали два другие человека, эти не умерли только благодаря тому, что случился опытный человек, видавший уже такие виды. Объевшихся раздели донага и держали животами пред жарким костром. Товарищи наблюдали, как из вытапливаемых бурлаков валил пар, и они уцелели и пошли на выкормку.
Все это сцены, известные меж теми, что попадали с мякины на хлеб; но рядом с этим шли и другие, тоже, впрочем, довольно известные сцены, разыгрываемые оставшимися без хлеба: ночами, по глухим и уединенным улицам города, вдруг ни с того ни с сего начали показываться черти. Один такой внезапный черт, в полной адской форме, с рогами и когтями, дочиста обобрал двух баб, пьяного кузнеца и совершенно трезвого приказного, ходившего на ночное свидание с купеческою дочерью. Ограбленные уверяли, что у черта, которому они попались в лапы, были бычьи рога и когти, совершенно как железные крючья, какими бурлаки, нагружая барки, шпорят кули. По городу никто не стал ходить, чуть догорала вечерняя зорька, но черт все-таки таскался; его видели часовые, стоявшие у соляных магазинов и у острога. Он даже был так дерзок, что подходил к солдатам ближе, чем на выстрел, и жалостно просил у них корочки хлеба. Посланы были ночные патрули, и один из них, под командой самого исправника, давно известного нам Воина Порохонцева, действительно встретил черта, даже окликнул его, но, получив от него в ответ «свой», оробел и бросился бежать. Ротмистр, не полагаясь более на средства полиции, отнесся к капитану Повердовне и просил содействия его инвалидной команды к безотлагательной поимке тревожащего город черта; но капитан затруднялся вступить в дело с нечистым духом, не испросив на то особого разрешения у своего начальства, а черт между тем все расхаживал и, наконец, нагнал на город совершенный ужас. В дело вмешался протоиерей Грацианский: он обратился к народу с речью о суеверии, в которой уверял, что таких чертей, которые снимают платки и шинели, вовсе нет и что бродящий ночами по городу черт есть, всеконечно, не черт, а какой-нибудь ленивый бездельник, находящий, что таким образом, пугая людей в костюме черта, ему удобнее грабить. На протопопа возгорелось сильное негодование. Уставщик раскольничьего молитвенного дома изъяснил, что в этом заключается ересь новой церкви, и без всякого труда приобщил к своей секте несколько овец из соборного стада. Черт отметил Грацианскому за его отрицание еще и иным способом: на другой же день после этой проповеди, на потолке, в сенях протопопского дома, заметили следы грязных сапогов. Разумеется, это всех удивило и перепугало: кто бы это мог ходить по потолку кверху ногами? Решено было, что этого никто иной не мог сделать, как черт, и протопоп был бессилен разубедить в этом даже собственную жену. Вопреки его увещаниям, отважный демон пользовался полным почетом: его никто не решался гневать, но и никто зато после сумерек не выходил на улицу.
Однако черт пересолил, и ему зато пришлось очень плохо; на улицах ему не стало попадаться ровно никакой поживы. И вот вслед за сим началось похищение медных крестов, складней и лампад на кладбище, где был погребен под пирамидой отец Савелий.
Город, давно напуганный разными проделками черта, без всяких рассуждений отнес и это святотатство к его же вражеским проказам.
Осматривавшие кражу набрели, между прочим, и на повреждения, произведенные на памятнике Савелия: крест и вызолоченная главка, венчавшие пирамиду, были сильно помяты ломом и расшатаны, но все еще держались на крепко заклепанном стержне. Зато один из золоченых херувимов был сорван, безжалостно расколот топором и с пренебрежением брошен, как вещь, не имеющая никакой ходячей ценности.
Извещенный об этом Ахилла осмотрел растревоженный памятник и сказал:
– Ну, будь ты сам Вельзевул, а уж тебе это даром не пройдет.
Глава четырнадцатая
В следующую за сим ночь, в одиннадцатом часу, дьякон, не говоря никому ни слова, тихо вышел из дому и побрел на кладбище. Он имел в руке длинный шест и крепкую пеньковую петлю.
Никого не встретив и никем не замеченный, Ахилла дошел до погоста в начале двенадцатого часа. Он посмотрел на ворота; они заперты и слегка постукивают, колеблемые свежим весенним ветром. Черт, очевидно, ходит не в эти ворота, а у него должна быть другая большая дорога.