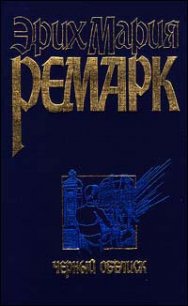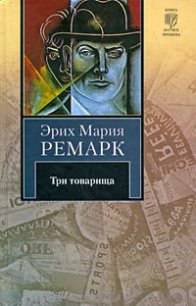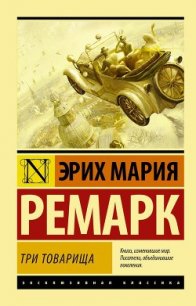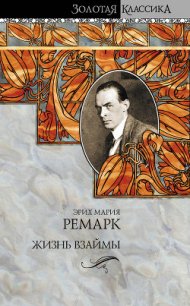Черный обелиск - Ремарк Эрих Мария (читать книги онлайн бесплатно регистрация .TXT) 📗
— Отчего ты меня не любишь? — шепчет Изабелла.
— Я люблю тебя. Все во мне любит тебя.
— Этого мало. Другие все еще тут. Если бы ты любил достаточно, ты бы убил их.
Я держу ее в объятиях и смотрю поверх ее головы в окно, где тени аметистовыми волнами легко встают с равнины и из аллей. Все в душе очерчено резко и ясно, и вместе с тем мне чудится, что я стою на узкой площадке, поднятой очень высоко над бормочущей бездной.
— Ты бы не допустил, чтобы я жила вне тебя, — шепчет Изабелла.
Я не знаю, что ответить. Когда она так говорит, ее слова всегда волнуют меня, словно в них кроется какая-то более глубокая правда, чем я могу понять, точно она лежит по ту сторону вещей, где уже не существует имен и названий.
— Ты чувствуешь, как становится холодно? — спрашивает она, прижимаясь к моему плечу. — Каждую ночь все умирает. Сердце тоже. Они распиливают его.
— Ничто не умирает, Изабелла. Никогда.
— Нет, умирает. Каменное лицо трескается, разлетается на куски. А на другой день оно снова тут. Ах, это не лицо! Как мы лжем нашими убогими лицами! Ты тоже лжешь!
— Да, — соглашаюсь я. — Но я лгать не хочу.
— Нужно соскоблить это лицо, пока ничего от него не останется. Только гладкая кожа. Больше ничего! Но и тогда еще оно остается. Оно начинает снова нарастать. Если бы все остановилось, не было бы боли. Почему они хотят отпилить меня прочь от всего? Почему она желает забрать меня обратно? Я же ничего не выдам!
— А что ты могла бы выдать?
— То, что цветет. Оно полно тины. Оно ведь побывало в каналах.
Изабелла снова начинает дрожать и прижимается ко мне.
— Они заклеили мне глаза. Клеем. А потом прокололи иголками. Но я все равно не могу отвести глаз.
— От чего отвести?
Она отталкивает меня.
— Они тебя тоже послали в разведку! Но я ничего не выдам. Ты шпион. Они тебя купили! Если я скажу, они меня убьют.
— Я не шпион. И зачем им тебя убивать, если ты мне скажешь? Они и так могли бы с успехом это сделать. Если я буду знать, то они и меня должны убить. Ведь тогда знал бы еще один человек.
Это до нее доходит. Она снова смотрит на меня. Думает. Я стою очень тихо, едва дыша. У меня такое чувство, словно мы очутились перед дверью, за которой может быть свобода — то, что Вернике называет свободой. Возврат из садов безумия на нормальные улицы, в нормальные дома, к нормальным отношениям. Не знаю, насколько такая жизнь будет лучше, но, когда передо мной это измученное создание, я не могу размышлять.
— Если ты мне объяснишь, в чем дело, они оставят тебя в покое, — говорю я. — А если не оставят, я призову на помощь. Полицию. Газеты. Тогда твои враги испугаются. А тебе уже нечего будет бояться.
Она стискивает руки.
— Это еще не все, — наконец говорит она с усилием.
— А что еще?
В один миг лицо ее становится жестким и замкнутым. Муки и нерешительности как не бывало. Рот кажется маленьким и сжатым, подбородок выдается вперед. Сейчас она чем-то напоминает тощую и злую старую деву-пуританку.
— Оставь, пожалуйста, — говорит она. Даже голос у нее изменился.
— Хорошо, оставим. Ничего не открывай мне.
Я жду. Ее глаза поблескивают, как мокрые шиферные крыши в свете угасающего дня. В них словно собраны все серые оттенки сумерек. Она смотрит на меня надменно и насмешливо.
— Вон чего захотел? Не вышло, шпион!
Мной овладевает беспричинная ярость, хотя я же знаю, что она больна и эти срывы сознания происходят молниеносно.
— Поди ты к черту, — говорю я гневно. — Какое мне дело до всего этого?
Я вижу, как лицо ее снова меняется, но я быстро выхожу из комнаты, полный непонятного возмущения.
x x x
— Ну и… — спрашивает Вернике.
— Вот и все. Зачем вы послали меня к ней в комнату? Ничего это не улучшило. Я не гожусь в санитары. Вы видите, мне следовало бережно ее уговаривать, а я на нее накричал и выбежал из комнаты.
— Результат был лучше, чем вы полагаете. — Вернике достает скрытую книгами бутылку и наливает два стаканчика. — Коньяк, — поясняет он. — Я бы хотел знать одно: как она почуяла, что мать опять здесь?
— Ее мать здесь?
Вернике кивает.
— Приехала два дня назад. Но матери она еще не видела. Даже из окна.
— А почему она не могла ее увидеть?
— Ей тогда пришлось бы высунуться не знаю как далеко наружу и иметь глаза, как полевой бинокль. — Вернике рассматривает на свет свой стаканчик с коньяком. — Но иногда такие больные чуют подобные вещи. А может быть, она просто догадалась и я сам навел ее на эту мысль.
— Зачем? — спрашиваю я. — Никогда еще приступ болезни не был так силен.
— Неверно, — отвечает Вернике.
Я ставлю свой стаканчик на стол и окидываю взглядом толстые тома его библиотеки.
— Очень она жалкая, просто тоска берет.
— Жалкая — да, но не более больная.
— Вам не следовало трогать ее, оставить такой, какой она была летом. Тогда она чувствовала себя счастливой. А теперь ее состояние ужасно.
— Да, ужасно, — соглашается Вернике. — Оно почти такое, как если бы все, что она вообразила, имело место в действительности.
— Она сидит точно в застенке. Вернике кивает.
— Люди думают, что таких вещей уже не существует. Нет, они существуют. Здесь у каждого в голове свой собственный застенок.
— И не только здесь.
— И не только здесь, — с готовностью соглашается Вернике и делает глоток коньяку. — Но здесь у многих в голове застенок. Хотите убедиться? Наденьте белый халат. Скоро время вечернего обхода.
— Нет, — говорю, — я еще помню последний раз, когда ходил с вами.
— Тогда вы видели войну, которая тут еще продолжает бушевать. Хотите посмотреть другое отделение?
— Нет. У меня и то осталось в памяти.
— Вы видели не всех, а только некоторых.
— Я повидал достаточно.
И мне представляются эти создания, которые неделями стоят по углам, скрючившись и оцепенев, или, не зная отдыха, мечутся вдоль стен, перелезают через койки или с побелевшими от ужаса глазами кричат и задыхаются в смирительных рубашках. Беззвучные грозы хаоса обрушиваются на них, и червь, коготь, чешуя, студенистое, безногое, извивающееся прабытие, ползающее, доинтеллектуальное существо, жизнь падали тянется к их кишечнику, паху, позвоночнику, чтобы стащить их снова вниз, в тусклый распад начала, к чешуйчатым телам и безглазому заглатыванию, — и они, вопя, словно охваченные паникой обезьяны, взбираются на последние облетевшие ветви своего мозга и гогочут, скованные охватывающими их все выше змеиными кольцами, в последнем нестерпимом ужасе перед гибелью — не сознания, но в ужасе, еще более нестерпимом, перед гибелью клеток, перед криком криков, страхом страхов, перед смертью, не индивидуума, а клеток, артерий, крови, подсознательных центров, которые безмолвно управляют печенью, железами, кровообращением, в то время как под черепом пылает огонь.
— Хорошо, — говорит Вернике. — Тогда пейте коньяк. Бросьте свои прогулки в пропасти подсознания и прославляйте жизнь.
— Зачем? Оттого, что все так отлично устроено в этом мире? Один пожирает другого, а потом самого себя?
— Да оттого, что вы живете, наивный вы чудак! А для проблемы сострадания вы еще слишком молоды и неопытны. Когда вы будете постарше, вы заметите, что проблемы этой не существует.
— Кое-какой опыт у меня все же есть.
Вернике качает головой.
— Напрасно вы задаетесь, хоть и побывали на войне. То, что вы познали, имеет отношение не к метафизической проблеме сострадания — это всего лишь часть общего идиотизма, присущего человеческой породе. Великое сострадание начинается с другого момента и к другому приводит, оно — по ту сторону и таких нытиков, как вы, и таких торговцев утешениями, как Бодендик…
— Ладно, сверхчеловек вы этакий, — говорю я. — Но разве это дает вам право пробуждать в головах ваших больных переживания ада, чистилища или медленной равнодушной смерти?
— Право… — отзывается Вернике с бездонным презрением, — насколько же приятнее честный убийца, чем такой вот адвокат, как вы! Что вы понимаете в вопросах права? Еще меньше, чем в вопросе о сострадании, вы, сентиментальный схоласт!