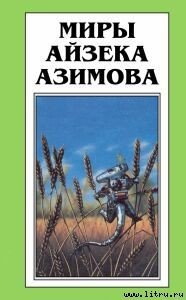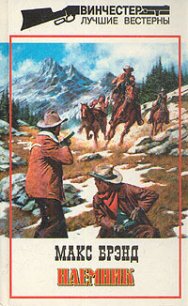Забвение - Зорин Леонид Генрихович (книги регистрация онлайн бесплатно TXT) 📗
В конце концов, духовность Алисы, сопровождавшая неизменно ее астартические конвульсии, стала для меня неподъемной. Есть все же разница между молитвой и танцами госпожи Гедройц. Либо ты кит, либо москит. Кроме того, ее учительство и миссионерство пугали. Грозили травмами, несовместимыми с жизнью. Естественно, что я предпочел непритязательность Евгении.
Но, избежав одной западни, я прямиком угодил в другую. Меня ожидало супружество с женщиной, которая одолевала дорогу, не поспешая, не суетясь. Так она получила меня, так она получила все прочее. Кунктаторы всегда на коне. Действуют в усыпительном ритме и добиваются своего. Вам покоряются — духом и плотью, терпят и холод и невнимание. Не обижаются ни на что, ни разу, ни при каких обстоятельствах. Вас обволакивают и обтекают, вы плещетесь в какой-то лохани с остывшей водицей — на ваших глазах она превращается в желеобразную, лишенную цвета и запаха массу. Вязко и пресно. Вы постигаете, что этот вот безвкусный кисель и есть ваше семейное счастье. Но воля к сопротивлению сломлена. Вата сильней любого металла.
Уйти в бега оказалось непросто — куда только делась ее потребность в самоотверженном служении? В глазах ее заплясало пламя, в голосе прорезалась сталь, большая грудь оделась бронею. Дорого мне далась свобода.
Все это вьюги былых времен. И я оживил их лишь потому, что нынче необходимо понять: хочется мне этих женщин помнить? И тех, кто некогда им предшествовал? Боюсь я забыть их? Или со всеми бесстрашно прощусь в пограничный час? Готовясь к унизительной участи, к которой я кем-то приговорен, к пучине, в которой я обречен бессмысленно и бесцельно барахтаться, — очень возможно, что долгий срок — я убеждаюсь, что страха нет.
Но страх пред унизительной немощью и пред бессилием человека, который не властен себе помочь — куда его деть и что мне делать?
Найти Евгению? Пасть ей в ноги? Вернуть и заставить уже чужую, старую женщину стать сиделкой при монстре, бессмысленном манкурте, забывшем даже себя самого? Было бы настоящей подлостью.
Нет, что угодно, только не это! Уж лучше одно из заведений, о коих и подумать нельзя без содрогания и ужаса — в конце концов, ведь я не смогу понять ни своего положения, ни перемены обстановки.
И все равно, все равно, все равно — неведомой мне частичкой кожи, каким-то ответным вздрогом души, проблеском спящего сознания я что-то почувствую и отзовусь.
Пусть я сегодня выдираю целые годы из дневника, если так можно назвать свою жизнь, — мало в ней глав, переписанных набело, больше неправленых черновиков — есть одно имя, в недобрый день нежданно-негаданно вдруг да и явится. Вдруг подстережет и ударит, вдруг да войдет ножом в предсердие. Я ли удерживаю его, или оно меня — мертвой хваткой? Сам не пойму. Не пойму и того — хочу ли я разжать эту хватку?
7
Ветер шевелил ее волосы, в комнате было почти светло — от полнолуния и от пламени желтых фонарей, так похожих на опрокинутые стаканы под перевернутыми блюдцами. Все это было потом, поздней — ветер, распахнутое окно, полнолуние и свет фонарей.
Сколько неразличимых лет уже проскрипело и заросло. Прошло уже столько тысяч дней и столько миллионов минут — и в их начале была та минута, когда прозвучал дверной звонок, резкий и сразу же захлебнувшийся. Я в нем расслышал одновременно и требовательность, и нерешительность, щелкнул замком и на пороге увидел незнакомую девушку.
Я оглядел ее чуть внимательней, чем это допускало приличие. Стянутые в учительский узел темные волосы над лобиком, белым, точно альпийский снег. Суровый немигающий взгляд, призванный скрыть ее безоружность. Выдавали глаза — продолговатые, трудно определимого цвета со странным золотистым отливом.
Преувеличенным и нарочитым было б сказать, что я ощутил: привычный обиход накренился. Версия весьма привлекательная, в ней есть романтическая мелодия, но так появляются легенды. На самом деле я был раздражен — число визитов в тот день зашкаливало.
К тому же, в предчувствии отказа, гостья взяла неверный тон, я сразу же распознал подтекст — скорее всего, вы убоитесь, ну что ж, не всем же быть смельчаками. Пришла она просить за приятеля, студента, попавшего в беду, искателя и поставщика редких изданий, всяческих книг, попавших в орбиту внимания общества.
Подтекст неприятно меня покоробил, но дело и впрямь было нелегкое. То, что передо мной не просто завсегдатай букинистических лавок, я понял без особых усилий. Среди издательских раритетов крамольные плоды самиздата были пусть не на первом месте, но уж, бесспорно, не на последнем. Но я включился в «книжное дело» и принял условия игры, даром что нашлись доброхоты, советовавшие мне уклониться. Я им не внял. Я бросился в омут. Испытывал не только азарт. Было какое-то упоительное и озорное вдохновение. Кажется, мне еще никогда не удавалось быть столь суггестивным — я убедил Высокий Суд принять предложенную мной схему как наилучшую для него. Маньяк, одержимый библиоманией, жертва неподконтрольной страсти — вот кто сидит на скамье подсудимых.
В сущности, Шура (так звали студента) таким и был, сочинять не пришлось. Во всяком случае, с этого начал. Тяга к текстам — в особенности к запретным, недешево ему обошлась. Впрочем, не ему одному. Наркотическое обаяние ереси окучивает почти незаметно — тем более людей простодушных. Сегодня читаешь и загораешься, завтра — как сомнамбула — действуешь.
Но мне удалось вернуть неофита — по крайней мере, в глазах суда — в его исходное состояние фанатика печатного слова, безумца не от мира сего. Не без изящества я перебросил карбонария в бытовую сферу — понизил в значении и в чине. Он отделался условным вердиктом — подельникам не так повезло. Ответили по суровым законам застойного времени — так впоследствии поименовали эпоху, считая ее вегетарианской. Ее вспоминали почти умиленно, меж тем она отлично умела продемонстрировать свои челюсти поверившим в ее склонность к диете.
Я сильно гордился своей удачей. Петр Акимович Александров, спасший когда-то Веру Засулич, мог бы сказать мне два добрых слова! Но я понимал: секрет удачи не только в моем адвокатском даре — на сей раз у меня была муза, которая мне, совсем как поэту, внушила энергию победителя.
Да, Алексей Головин влюбился. И что еще хуже — полюбил. Даже сейчас, через столько лет, мне трудно произнести это слово. Что делать, всегда меня настораживало его возвышенное лукавство.
Как всякий, дерзнувший сказать о любви не слишком восторженно, я рискую. Уже история брака с Евгенией выглядит весьма подозрительно. Что можно подумать о человеке, который довольствовался грудью, пусть даже большой, заслоняясь ею от чувства, движущего мирами? Какая цена его речам?
Все справедливо, да я и сам спрашиваю себя о том же. И все-таки осмелюсь сказать: любовь — не только улыбка неба. Мне доводилось видеть счастливчиков, контуженных этой взрывной волной, но я не завидовал потерпевшим. Я видел, что люди, больные любовью, способны не день и не два пребывать в завидном примирении с миром, но видел и то, что они беззащитны, забавны, безнадежно зависимы. Я сознавал, что качество страсти у тех, кто влюблен, совсем иное, неужели у тех, кто партнерствует — скорей для порядка, чем от горячки, — и все же предпочитал уцелеть.
Друзья оправданного студента решили отметить это событие. На вечер был приглашен и я. Вместе с виновником торжества я оказался в центре внимания. Роли распределились так: Шура был полоненной жертвой, я же — героем-освободителем.
Лестно. С полчасика я благодушествовал, слушая тосты в честь златоуста. Опытный тактик и мудрый стратег. Вы нам вернули нашего Шуру. Спасибо, Алексей Алексеевич. Не за что. Это моя работа. Рад послужить правому делу.
Однако чем дальше, тем ощутимей проступала тканевая несовместимость. При этом не только возрастная. Да, полтора десятка лет не сбросишь со счета — куда ни кинь, я старше на целое поколение, — но был и еще один барьер. Пусть даже все, кто пришел на вечер, как бы условились, что Головин — наследник Плевако и Карабчевского, я, тем не менее, оставался в глазах гостей Человеком Системы. Я принимал ее институты, правила ее поведения, участвовал в ее лживой игре и, судя по моей популярности, был игроком вполне успешным. Естественно, что племя младое, собравшееся в этой квартире (никто не знал, кто хозяин жилья, где он и кто его представляет), чувствовало свое превосходство. Кто неслучайно, кто невольно, но так или этак его демонстрировал. Один худощавый нервный брюнет старался куснуть меня то и дело. Возможно, он меня приревновал, хотя ни я, ни моя вдохновительница сами еще ни о чем не догадывались. Впрочем, скажи я ему об этом, он безусловно бы возроптал. Нет уж, избавьте от ваших пошлостей. Мне нужно понять, в чем ваша суть и с кем я сегодня имею дело.