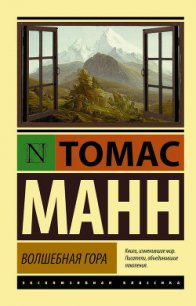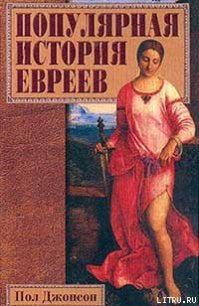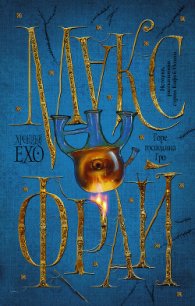Волшебная гора. Часть I - Манн Томас (книги бесплатно .TXT) 📗
Затем дед ставил чашу обратно на тарелку и давал малышу заглянуть в ее гладкое, чуть золотящееся нутро, которое вдруг вспыхивало от света, падавшего с потолка.
— Вот уже скоро восемь лет, — говорил дед, — как мы держали тебя над нею, и вода, которой тебя крестили, стекала в нее… Кистер Лассен из церкви святого Иакова лил ее в горсть нашему доброму пастору Бугенхагену, а оттуда она лилась на твой вихор и в чашу. Но мы ее перед тем подогрели, чтобы ты не испугался и не расплакался, а ты и не заплакал, наоборот — ты кричал перед тем так, что Бугенхагену нелегко было произнести свою речь, но когда на тебя полилась вода, ты вдруг затих — будем надеяться, что из уважения к святому таинству. На днях минет сорок четыре года, как крестили твоего покойного отца и с его головы в чашу стекала вода. Это происходило здесь, в доме его родителей, наверху в зале, перед средним окном; его еще крестил старик пастор Езекиил, тот самый, кого французы, когда он был юношей, чуть не расстреляли за то, что он в своих проповедях громил их за разбой и поджоги, — он тоже давным-давно на небесах. А семьдесят пять лет тому назад меня самого крестили в этой же зале, и они держали мою голову над чашей, которая стоит вот тут на тарелке, и пастор произносил те же слова, что и над тобой и над твоим отцом, и так же стекала теплая чистая вода с моих волос (тогда их было у меня на голове немногим больше, чем сейчас) в эту золотую чашу.
Ребенок поднимал глаза и смотрел на старчески сухощавую голову деда — она ведь тоже была склонена над купелью в тот далекий час, о котором он рассказывал внуку, — и в душе мальчика возникало уже не раз изведанное им ощущение какой-то дремотной и мечтательной жути, чего-то, что проходит и все же стоит на месте, что в своих изменениях пребывает неизменным, исчезает и возвращается, оставаясь головокружительно единым. Это чувство появлялось у него и раньше, его прикосновения он ждал и жаждал; отчасти ради него мальчику и хотелось, чтобы ему все вновь и вновь показывали эту неподвижно стоящую на месте и все-таки странствующую реликвию семьи.
Когда потом, уже будучи молодым человеком, Ганс Касторп думал о себе, то ему становилось ясно, что образ деда запечатлелся в его душе гораздо глубже и отчетливее и представлялся ему более значительным, чем образ родителей; причиной этого являлась, может быть, особая симпатия к деду, чувство особого сродства с ним, ибо внук и наружностью был очень похож на него — насколько розовый юнец может походить на поблекшего и окостеневшего семидесятилетнего старца. Несомненно, эти чувства вызывал и сам дед, который бесспорно являлся в семье наиболее характерной и красочной фигурой.
С точки зрения общественного развития, время, еще задолго до кончины Ганса-Лоренца Касторпа, уже перекатилось через него и унеслось вперед. Он был глубоко верующим христианином и членом реформатской общины [8], строго придерживался старых традиций, с трудом шел на какие-либо новшества и так упрямо отстаивал необходимость ограничить аристократией круги, способные управлять государством, как будто жил в четырнадцатом веке, когда ремесленники в упорной борьбе с исконным вольным патрициатом начали завоевывать себе места и голоса в городской думе [9]. Его деятельность совпала с десятилетиями бурного подъема и многообразных переворотов, с десятилетиями стремительного прогресса, шествовавшего форсированным маршем и неизменно требовавшего от общества высокой жертвенности и дерзаний. Но его, старика Касторпа, видит бог, отнюдь не радовали те прославленные и блистательные победы, которые одерживал дух новой эпохи. Обычаи отцов и старинные учреждения он ставил гораздо выше, чем все эти рискованные попытки расширить гавани или другие безбожные причуды больших городов; поэтому он тормозил и угашал все новое, где только мог, и будь его воля — в управлении страной и поныне царила бы та же допотопная идилличность, которой отличалась его собственная контора.
Таким представлялся бюргерам старик Касторп и при жизни, и после смерти; пусть маленький Ганс Касторп ничего не смыслил в государственных делах, но у него, наблюдавшего характер деда с чисто детской тихой созерцательностью, складывались в основном те же впечатления — без слов, а потому и без критики; это были скорее непосредственные живые восприятия, и когда они позднее возникали уже как осознанные воспоминания, они оставались столь же невыразимыми в словах и неподдающимися анализу, но полными прежней жизнеутверждающей силы. Как уже было сказано, здесь играло немалую роль то глубокое сродство, та симпатия и связь между дедом и внуком, которые соединяли их, минуя звено одного поколения, что случается в семьях нередко. Дети и внуки взирают на отцов и дедов, чтобы восхищаться ими, а, восхищаясь, учатся у них и развивают в себе заложенное в них отцами и дедами наследие.
Сенатор Касторп был тощ и долговяз. Годы взяли свое — его спина и шея согнулись, но, не желая выдавать этой согбенности, он упорно выпрямлял свой стан, а уголки губ, уже лежавших не на зубах, а на обнаженных деснах (старик пользовался искусственной челюстью лишь во время еды), он старался с достоинством держать опущенными; желая также скрыть, что голова у него начала трястись, он принимал гордую осанку и опирался подбородком на воротничок — привычка, особенно пленявшая маленького Ганса Касторпа.
Дед любил нюхать табак, он хранил его в продолговатой черепаховой табакерке с золотыми инкрустациями и из-за этой склонности употреблял только красные носовые платки, причем кончик обычно вывисал из заднего кармана его сюртука; хотя эта привычка и казалась несколько смешной при столь достойном внешнем облике, однако ее легко можно было извинить преклонным возрастом — либо как одну из тех вольностей, которую старость разрешает себе сознательно, из чудачества, либо как одну из тех слабостей, которые появляются у глубоких стариков, но ими не осознаются. Во всяком случае, Ганс Касторп своим по-детски зорким взглядом подметил за дедом эту единственную слабость. И семилетнему мальчику и, позднее, взрослому человеку, когда он обращался к своим воспоминаниям, казалось, что будничный облик деда — это еще не его истинная, подлинная сущность. В истинной действительности он выглядит иначе, прекраснее и ближе к своему подлинному облику — как на своем портрете во весь рост, висевшем раньше в столовой родителей, а теперь перекочевавшем вместе с маленьким Гансом Касторпом в дом на Эспланаде, где его водрузили в гостиной над широким диваном, обитым красным шелком.
Художник изобразил Ганса-Лоренца Касторпа в одежде члена магистрата; это была строгая, почти ритуальная одежда прошлого столетия, — она сохранила на века дух тогдашней городской общины, важный и вместе предприимчивый, — и надевалась в самых торжественных случаях, как бы для того, чтобы церемониально претворять прошлое в настоящее и настоящее — в прошлое, тем самым подтверждая неизменную связь всех вещей и добротную надежность почтенной купеческой подписи.
Сенатор Касторп стоял во весь рост на полу из красноватых плит, фоном служили готические арки и колонны. Он стоял, опустив подбородок и углы рта, устремив вдаль задумчивый взгляд голубых глаз с отеками под ними, в черном, ниже колен, одеянии, похожем на мантию, открытом спереди и обшитом широкой меховой каймою. Из широких с буфами верхних отороченных мехом рукавов выступали более узкие нижние, из простого сукна; кружевные манжеты закрывали руки до середины пальцев. На стройных старческих ногах были черные шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками, шею охватывали крахмальные, широкие и пышные брыжи, спереди они были плоские, по бокам стояли вверх, а из-под них на жилет спускалось еще плоеное батистовое жабо. Под мышкой сенатор держал старомодную шляпу с полями и суживающейся кверху тульей.
Портрет, написанный известным художником, был превосходен, выдержан в манере старинных мастеров, очень подходившей к данному сюжету и будившей в зрителе воспоминания об испано-нидерландском позднем средневековье. Маленький Ганс Касторп частенько разглядывал эту картину. Он, конечно, не понимал мастерства живописца, но какое-то более общее и глубокое понимание у него возникало; и хотя он видел деда таким, как на холсте, всего один раз, в минуту его торжественного въезда в ратушу, да и то лишь мельком, все же, как мы уже отмечали, дед на картине казался мальчику подлинным и настоящим, а дед в жизни — образом будничным и временным, вспомогательным и весьма несовершенным.
8
…членом реформатской общины. — Существующая и по сей день реформатская церковь возникла в XVI в. в Швейцарии, на основе учения У.Цвингли и Ж.Кальвина как одна из разновидностей протестантизма.
9
…Когда ремесленники в упорной борьбе с… патрициатом начали завоевывать себе места и голоса в городской думе. — Борьба между ремесленными цехами и патрициатом (именитым купечеством), захватившим хозяйственную и политическую власть в Гамбурге в XIII—XIV вв. закончилась введением закона 9 января 1669 г., согласно которому горожане получили право участия в управлении и законодательстве.