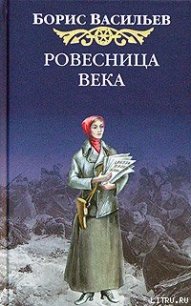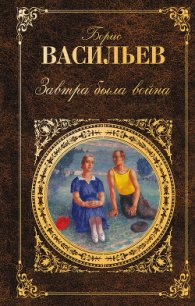Дом, который построил Дед - Васильев Борис Львович (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
— Милиции.
— Милиции бороться не столько с преступлениями, сколько с грехами. А грехов — несть числа.
— Для этого существует наука. Всеобщая грамотность. Общественное воздействие, наконец.
— И отсутствует Бог! А Бог квартирует в сердце, а не в голове. А наука, грамотность, общество не имеют ключика к человеческому сердцу. Они будут апеллировать к сознанию, то есть к рассудку, к той же голове. А человек грешит не головой, а страстью. А страсть — ниже. Пальба не по тем мишеням.
— Давайте отделим философию, — улыбнулся Федос Платонович. — Давайте ближе к фактам. Церковь в селе действует?
— Имел честь венчаться.
— Это — факт. Мы и не собираемся сокрушать религию. Мы просто отделяем ее от государства, и только. И пусть себе занимается с теми, кто жить без нее не может. Будет полная свобода совести: хочешь — ходи в церковь, венчайся, крести детей. Не хочешь — не делай, тебя никто не упрекнет. Свобода совести — принципиально новая ступень в познании человеком самого себя.
— Грехи не подвластны сознанию, Федос Платонович. Они подчиняются страстям, как вы понять этого не можете? Затмение на всех вас, большевиков, нашло, что ли? Вот вы в Татьяну влюбились, надеюсь, не по разуму? Следовательно, существуют деяния человеческие, которые никакой ученый с аршинным лбом никогда не разрешит.
— А религия, по-вашему, все загадки уже разрешила?
— А для нее нет научных проблем, она к сердцу адресована. К чувствам человеческим. Или вы без всяких чувств новое общество строить надумали, одной наукой? Тогда — страшно. Страшно, Федос Платонович, мне, старику, страшно за внуков моих.
Генерал в такие минуты забывал о своей недавней суетливости в присутствии Минина. Нет, чувство глубокой вины, возложенной им на себя по требованию совести и чести, никогда не покидало его, но он перестал гнуться под ее тяжестью. Он начал спорить с Федосом Платоновичем не только на отвлеченные, но и на политические темы, в горячке повышая и без того генеральский голос, а потом казнился:
— Я — неискренний, а следовательно, и нечестный человек. Я — двуликий Янус, любовь моя.
— Безусловно, — согласилась Руфина Эрастовна. — И я, как гимназистка, влюблена во все ваши лики и личины. И тут уж ничего не поделаешь. Терпите.
Окрепнув, Минин опять зачастил в село. Созданная им ячейка окрепла и даже увеличилась до четырех человек, включив сочувствующим сильно (по сельским меркам) склонного к выпивке Герасима.
— Ну, а его-то зачем?
— Перевоспитаем, — уверенно сказал секретарь ячейки.
Секретарем был унтер, хмурый от рождения и на редкость невезучий. Его преследовали неурожаи, пожары, завидущая жена, и даже на германской его обошли крестом, хотя воевал он старательно. Последняя обида оказалась последней каплей, убедив его, что во всех несчастьях виноват не столько Бог, сколько люди. Они творили несправедливость, а большевики справедливость обещали, и Зубцов уверовал в них. Он не нравился Минину, но был грамотен, читал газеты и умел все объяснять.
В начале весны из Смоленска приехали четверо из продовольственной комиссии: город сидел без хлеба. Никто никому еще не угрожал, представители просили, а не требовали, с готовностью раздавая долговые расписки и до хрипоты агитируя на сельских сходах. Но староста созывать мужиков на сход категорически отказался:
— Хлебушек трудом достается, а не горлом. Везите серпы, косы, скобяной товар, жатку, если сможете. С походом расплачусь, они скрипеть будут. А за бумажки — нет.
— Откуда у нас жатки, откуда? А рабочий класс бедствует. Это ты можешь понять?
— Мануфактуру везите, нитки с иголками. Я за труд своим мужикам должен хоть что-то дать. Мы все — сознательные, и рабочему человеку рады помочь. Но и вы сознательными будьте, за так хлебушек не дают.
Напрасно орал Зубцов, напрасно агитировала прибывшая четверка, и даже Минин напрасно уговаривал: староста был непреклонен. А в селе его уважали, и представители уехали ни с чем.
— Надо мне в Смоленск ехать, — сказал Минин Татьяне. — Что-то они там недодумали. Нельзя же у крестьянина зерно отбирать под пустую бумажку.
— Ты еще недостаточно окреп, Федя.
— Дела требуют, Танечка. Дружба нужна с деревней, взаимопомощь.
— Феденька, милый, я не поеду, — помолчав, тихо сказала Таня. — У меня ведь тоже дело. Бросить ребятишек? Школу? Как же я могу?
— Да, время такое, что чем-то жертвовать надо. — Минин вздохнул. — Но ты ведь приедешь, правда? Начнется посевная, школа закроется, и ты…
Таня молча кивала, сдерживая слезы. Она уже знала, что беременна, и сейчас решала, сказать об этом мужу или не тревожить его пока. И решила не тревожить, зная, что Минин все равно уедет в Смоленск. И не осуждала его за это.
Вскоре Минин уехал. Провожали его тепло и грустно, успев привязаться по-родственному. И по-родственному расцеловались, даже генерал от души чмокнул в обе щеки.
— Пусто без вас место сие, помните.
Через неделю после отъезда Минина арестовали старосту. Приехали милиционеры под началом сурового, с наганом на боку.
— За саботаж и попытку спекуляции хлебом.
Сопровождать старосту в город разрешили среднему сыну, который осенью возил генерала в Смоленск. Старательному, но не очень соображающему, что и как. Может, поэтому и разрешили.
— Вот она, наша советская справедливость! — кричал председатель ячейки Зубцов. — Никому не дозволим морить голодом братьев-рабочих! Долой мироедов!
Орал он на сходе, который собрал сразу же, как только увезли старосту. Мужики хмуро отмалчивались: теперь Григорий Зубцов становился первым человеком на селе.
Сопровождавший старосту сын вернулся дня через три. Заехал в усадьбу, был растерян, ничего не понимал, плакал, вытирая слезы шапкой.
— В подвал тятеньку спрятали. Христом-Богом молил, чтоб дозволили хлебушка передать. Не дозволили. Тогда я учителя нашел, Федоса Платоновича. Он помог Дозволили.
Он вдруг перестал всхлипывать, мучительно пытаясь сосредоточиться. Долго шарил по карманам, за пазухой. Потом залез в промокшую от слез шапку, достал клочок бумаги.
— Велел передать.
Таня, пытавшаяся все время успокоить паренька, посмотрела на записку, передала Варе.
— Это тебе.
«Дорогая Варя! По наведенным справкам бывший поручик Старшов Леонид Алексеевич в Красной Армии не числится. Не отчаивайтесь, это — первые сведения, поиски продолжаю. Поцелуйте Танечку, детей. Кланяюсь всем.
Ваш Минин».
— Не верю! — отчаянно выкрикнула Варвара. — Не верю, он жив, жив! Сама найду. Сама!..
3
Ольга рожала дома, потому что расторопный в делах коммерческих Василий Парамонович необъяснимо боялся новой власти, общества в целом, людей в частности, а заодно и больниц. Роды обещали быть трудными, Фотишна погнала Кучнова за врачом, но он вместо неизвестных ему докторов привел знакомую повитуху, принимавшую когда-то его Петеньку и ускорившую кончину супруги. Ольга родила сына в мучениях, и больше детей у нее быть уже не могло. Тогда она, естественно, об этом еще не знала, была безмерно счастлива и говорила только о сыночке, окрещенном (тайком, конечно) Сергеем.
Навсегда перепуганный еще в ту, осеннюю, ночь Кучнов после долгих мучительных колебаний и подсчетов, все прикинув и рассудив, добровольно и безвозмездно передал все свои склады и капиталы новой власти города Смоленска. Акт был торжественным, поскольку Кучнов торопился быть первым из всего городского купечества. Власти усмотрели в этом революционный поворот в сознании, выдали Василию Парамоновичу Охранную бумагу за двумя печатями и разрешили открыть небольшую скобяную лавку. Кучнов переделал под нее бывший каретный сарай, запасся товаром, кое-что прикупив для видимости, но в основном из припрятанного загодя, и сидел в ней с утра до вечера. И хотя покупателей почти не было, средства для жизни добывались под прикрытием Охранной грамоты из тайной кубышки. И что бы там ни думал о нем генерал Олексин, Василий Парамонович Кучнов умел смотреть в будущее.