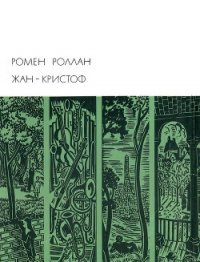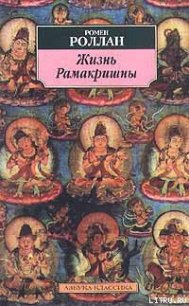Жан-Кристоф. Том IV - Роллан Ромен (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Эмманюэль и Жорж испытывали в присутствия Кристофа покой, который он, в свою очередь, черпал в любви Грации. Этой любви он был обязан юношески страстным и неослабевавшим интересом ко всем проявлениям новой жизни. Каковы бы ни были силы, обновлявшие землю, он всегда был за них, даже если они ополчались против него. Он не боялся близкого пришествия той демократии, при виде которой кучка привилегированных эгоистов испускала воинственные крики, он не цеплялся в отчаянии за скрижали устаревшего искусства; он уверенно ждал, что из сказочных видений, из осуществленных мечтаний науки и практики родится новое искусство, более могучее, чем прежнее; он приветствовал пришествие новой зари мира, если даже красота старого мира должна была при этом погибнуть.
Грация знала о благотворном влиянии своей любви на Кристофа; ощущение своей силы поднимало, возвышало ее. В письмах она руководила своим другом. Разумеется, она не предъявляла нелепых претензий и не пыталась давать ему указания в области искусства; она обладала для этого слишком большим тактом и знала пределы своих возможностей. Но ее верный и чистый голос был тем камертоном, на который настраивалась душа Кристофа. Достаточно было Кристофу представить себе, как этот голос повторяет его мысль, и она сразу становилась справедливой, чистой и достойной повторения. Звуки прекрасного инструмента для музыканта — то же, что прекрасное тело, в которое тотчас же воплощается его мечта. Таинственное слияние двух любящих душ; каждая из них берет лучшее у другой, но лишь с тем, чтобы вернуть взятое обогащенным своей любовью. Грация не боялась признаваться Кристофу, что любит его. Расстояние, а также уверенность, что она никогда уже не будет принадлежать ему, давали ей возможность говорить гораздо свободнее. Эта любовь, священный пламень которой передался Кристофу, была для него источником силы и покоя.
Грация давала окружающим гораздо больше этой силы и покоя, чем имела сама Ее здоровье было надломлено, душевное равновесие подвергалось серьезному испытанию. Состояние здоровья сына не улучшалось. В течение двух лет она жила в постоянном страхе, который еще усугубляла жестокость Лионелло, умевшего играть на ее чувствах. Он достиг подлинной виртуозности в искусстве усиливать беспокойство тех, кто его любил; чтобы возбуждать к себе сострадание и мучить людей, его праздный ум изощрялся в выдумке, — это превратилось у него в настоящую манию. Весь трагизм заключался в том, что, в то время как он кривлялся, изображая болезнь, болезнь действительно настигла его, и возник призрак смерти. Тогда произошло то, что можно было предвидеть: Грация, которую ее сын в течение ряда лет терзал воображаемой болезнью, перестала ему верить, когда он заболел по-настоящему. Сочувствие имеет границы. Она израсходовала все свое сострадание на ложь. А теперь, когда Лионелло говорил правду, она думала, что он притворяется. Впоследствии, когда обнаружилась истина, остаток ее жизни был отравлен угрызениями совести.
Злоба Лионелло осталась неукрощенной. Он не любил никого и не мог вынести, чтобы кто-нибудь из окружающих любил кого-либо, кроме него; ревность была его единственной страстью. Он не удовлетворился тем, что ему удалось разлучить мать с Кристофом; он хотел заставить ее порвать их давнишнюю дружбу. Он уже использовал свое обычное оружие — болезнь — и вынудил Грацию поклясться, что она никогда больше не выйдет замуж. И этого обещания ему было мало. Он потребовал, чтобы мать перестала писать Кристофу. На сей раз Грация возмутилась: это злоупотребление властью привело к тому, что она освободилась от нее; она наговорила сыну много суровых и жестоких слов о его лживости, а впоследствии упрекала себя за это, как за преступление. Ее слова вызвали у Лионелло припадок такого бешенства, что он действительно заболел, а мать ему не верила. Он был так зол, что ему хотелось умереть, лишь бы отомстить ей. Он не подозревал, что его желание осуществится.
Когда врач дал понять Грации, что ее сын обречен, она окаменела, ее словно громом поразило. Приходилось, однако, скрывать свое отчаяние, чтобы обмануть ребенка, который так часто обманывал ее. Он же, догадываясь, что на этот раз болен серьезно, не желал этому верить, и глаза его искали в глазах матери того самого упрека во лжи, который приводил его в ярость, когда он действительно лгал. Пришел час, когда больше не оставалось сомнений. Это было невыносимо для него и для его близких: он не хотел умирать…
Когда он наконец уснул навеки, Грация не вскрикнула, у нее не вырвалось ни единой жалобы. Она поразила родных своим спокойствием; у нее больше не было сил страдать. Она хотела одного — тоже уснуть. Между тем она продолжала заниматься обычными, повседневными делами, внешне сохраняя полное спокойствие. Некоторое время спустя улыбка снова появилась на ее губах, но она стала еще молчаливее. Никто не подозревал об ее отчаянии. Кристоф меньше, чем кто бы то ни было. Она ограничилась тем, что сообщила ему о случившемся, не говоря ничего о себе. На письма Кристофа, исполненные любви и беспокойства, она не отвечала. Он хотел приехать; Грация просила его не приезжать. Месяца через три она снова стала писать ему в том же спокойном и ровном тоне. Ей казалось преступным взваливать на него груз своих скорбей. Она знала, с какой силой откликается Кристоф на все ее чувства и как он нуждается в ее опоре. Ее сдержанность была не болезненным принуждением, а дисциплиной, которая спасала ее. Она устала от жизни, и только любовь Кристофа и фатализм, который, как в скорби, так и в радости, составлял основу ее итальянской натуры, удерживал ее. В этом фатализме разум отсутствовал; то был инстинкт, который заставляет двигаться изнемогающего зверя; он двигается, не чувствуя усталости, словно во сне, с неподвижным взглядом, не замечая ни дорожных камней, ни своего измученного тела до тех пор, пока не свалится. Фатализм поддерживал ее тело. Любовь поддерживала ее сердце. Теперь, когда ее жизнь была кончена, она жила Кристофом. Но она больше чем когда-либо остерегалась выражать в своих письмах любовь к нему. Вероятно, потому, что эта любовь стала сильнее, а еще потому, что над ней тяготело veto маленького покойника, который считал это чувство преступлением. Порой она умолкала, заставляя себя некоторое время не писать Кристофу.
Кристоф не понимал причин этого молчания. Иногда он улавливал в ровном и спокойном тоне письма новые неожиданные интонации, трепет страсти. Его глубоко волновало это, но он не смел ничего сказать, едва осмеливался замечать их; он походил на человека, который боится дышать, чтобы не спугнуть видение. Он знал, что в следующем письме эти интонации наверняка будут искуплены нарочитой холодностью… А потом снова затишье… Meeresstille…
Как-то днем Жорж и Эмманюэль сидели у Кристофа. Оба были поглощены своими заботами; Эмманюэль — литературной грызней, Жорж — неудачным спортивным состязанием. Кристоф добродушно слушал и дружески подсмеивался над ними. Раздался звонок. Жорж пошел отворить. Слуга Колетты принес письмо. Кристоф подошел к окну и начал читать. Друзья продолжали спорить; они не видели лица Кристофа, стоявшего к ним спиной. Он вышел из комнаты, но они не обратили на это внимания. А когда заметили его отсутствие, то не были этим удивлены. Он долго не возвращался: Жорж постучал в дверь соседней комнаты. Ответа не последовало. Зная причуды своего старого друга, Жорж перестал стучать. Через несколько минут Кристоф вернулся. Он казался очень спокойным, очень усталым, очень кротким. Он попросил извинения, что оставил их, и продолжал прерванную беседу. Стараясь утешить их, он говорил с ними об их неприятностях с таким участием, что им становилось легче на душе. Звук его голоса странно волновал Жоржа и Эмманюэля, хотя они и не понимали почему.
Вскоре они попрощались и ушли. По пути Жорж зашел к Колетте. Он застал ее в слезах. Увидев его, Колетта бросилась к нему и спросила: