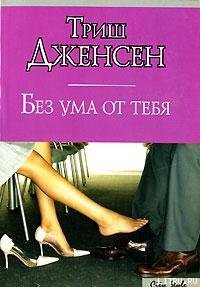Хмурое утро - Толстой Алексей Николаевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Она долго дожидалась на черном крыльце, когда в поповском доме проснутся. Наконец вышел Яков с помойным ведром, выплеснул его на кучу грязного снега и сказал Кате:
– А я собрался посылать за вами… Пойдемте…
Он повел Катю в дом, предложил Кате сесть и некоторое время рылся в ящике стола.
– Вашего мужа, или как он там вам приходится, мы расстреляем.
– Он мне не муж, никто, – быстро ответила Катя. – Я прошу только – дайте мне возможность уехать отсюда. Я хочу в Москву…
– «Я хочу в Москву», – насмешливо повторил Яков. – А я хочу спасти вас от расстрела.
Катя просидела у него до вечера, – рассказала все про себя, про свои отношения с Алексеем. Время от времени Яков уходил надолго, – возвращаясь, разваливался, закуривал.
– По инструкции Наркомпроса, – сказал он, – в селе нужно восстановить школу. Не очень-то вы подходите, но на худой конец – попробуем… Вторая ваша обязанность – сообщать мне все, что делается на селе. О подробностях этой корреспонденции условимся после. Предупреждаю: если начнете болтать об этом, – будете наказаны жестоко. О Москве покуда советую забыть.
Так, неожиданно, Катя стала учительницей. Ей отвели маленькую пустую хатенку около школы. Бывший здесь старичок учитель умер еще в ноябре от воспаления легких; петлюровцы, занимавшие одно время школу под воинскую часть, спалили на цигарки все книжки и тетради, даже географическую карту. Катя не знала, с чего и начать, – и пошла за советом к Якову. Но его на селе уже не было. Внезапно, так же как тогда появился, он уехал, получив какую-то телеграмму с нарочным, – успел сказать только деду Афанасию, который околачивался теперь около комитета бедноты, боясь утратить свое влияние:
– Передай товарищам, – поблажек мужичкам – ни-ни, никаких. Вернусь, – проверю…
С отъездом Якова на селе стало тихо. Мужички, приходя к поповскому дому посидеть на крылечке, говорили комитетчикам:
– Натворили вы делов, товарищи, как уж будете отвечать?.. Ай, ай…
Комитетчики и сами понимали, что – ай, ай, и на селе тихо только снаружи. Яков не возвращался. Прошел слух про Алексея Красильникова, будто он собрал в уезде отряд и перекинулся к атаману Григорьеву. А скоро все село заговорило про этого Григорьева, который выпустил универсал и пошел громить советские города. Опять стали ждать перемен.
В сельсовете Кате обещали кое-чем помочь: поправить печи, вставить стекла. Катя сама вымыла в школе полы и окна, расставила покалеченные парты. Она была добросовестная женщина и по вечерам одна у себя в хатенке плакала, потому что ей было стыдно обманывать детей. Чему она могла научить их – без книг, без тетрадей? Какие могла преподать правила, когда всю себя считала неправильной… И вот, рано утром, около школы раздались веселые голоса мальчиков и девочек. Ей пришлось собрать все самообладание. Волосы она гладко зачесала и завязала тугим узлом, руки чисто-чисто вымыла. Отворила школьную дверь, улыбнулась и сказала маленьким, задравшим к ней курносые носишки мальчикам и девочкам:
– Здравствуйте, дети…
– Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна… – закричали они так чисто, звонко, весело, что у нее вдруг стало молодо на сердце. Она рассадила детей по партам, взошла на кафедру, подняла указательный палец и сказала:
– Дети, пока у нас нет книжек и тетрадей и чем писать, я буду вам рассказывать, а вы, если чего не поймете, то переспрашивайте… Сегодня мы начнем с Рюрика, Синеуса и Трувора…
Хозяйство у Кати было совсем бедное. С Алексеева двора она ничего не захотела брать, да и тяжело ей было встречаться с осунувшейся, мрачной Матреной. В Катиной хатенке лежал веник у порога, на шестке – два глиняных горшка да в сенях старая деревянная бадейка с водой. Утехой был маленький садик, обнесенный плетнем, – две черешни, яблоня, крыжовник. За плетнем начиналось поле.
Когда зацвели вишни, Катя почувствовала, что ей будто семнадцать лет.
В садике она обычно готовилась к урокам, читала французские романы из библиотеки сахарозаводчика и часто вспоминала Париж в голубой дымке прошлых лет. Тогда – в четырнадцатом году – она жила в предместье Парижа, в полумансардной квартирке с балконом, повисшим над тихой узенькой улицей, над крышей небольшого дома, в котором некогда жил Бальзак. Окна его кабинета выходили не на улицу, а в сады, спускающиеся к Сене. В его время здесь была глушь. Когда со стороны улицы появлялись кредиторы, он потихоньку удирал от них через сады на Сену. Теперь сады принадлежали какой-то богатой американке, и там по вечерам, когда Катя выходила на балкон, кричали павлины резкими весенними голосами, и Кате, приехавшей в Париж после разрыва с мужем, – в тоске, в одиночестве, – казалось, что жизнь уже кончена.
Дети полюбили Катю, на уроках очень внимательно слушали ее рассказы из русской истории, похожие на сказки. Конечно, задачи по арифметике, таблица умножения и диктанты были более трудным делом для детей и для самой Кати, но общими усилиями справлялись. На селе теперь к ней относились гораздо лучше, – все знали о том, как Алексей едва не убил ее. Женщины приносили кто молочка, кто яичек, кто хлеба. Что принесут, то Катя и ела.
Сидя под старой, покрытой лишаями яблоней, Катя правила тетрадки. За низеньким, тоже ветхим, плетнем давно уже хныкал маленький мальчик.
– Тетя Катя, я больше не буду.
– Нет, Иван Гавриков, я на тебя сердита, и я с тобой два дня не разговариваю.
Иван Гавриков – с голубыми, невинными глазами – был невероятный шалун. На уроках он тянул девочек за косицы; когда ему за это выговаривали, он будто бы засыпал и сваливался под парту, – нельзя даже описать всех его шалостей.
– Нет, нет, Гавриков, я прекрасно вижу, что ты не раскаиваешься, а пришел сюда от нечего делать…
– Раз-ей-боженьки, больше не буду…
В хату с улицы кто-то вошел, и голос Матрены позвал Катю.
Что ей было нужно? Катя быстро простила Гаврикова и пошла в хату. Матрена встретила ее пристальным, недобрым взглядом.
– Слыхала? Алексей близко… Катерина, не хочу я этого больше, не ко двору ты нам… Все равно – убьет он тебя… Зверем он стал, что крови льет! Ты во всем виновата… Один человек вот только что рассказывал – Алексей идет сюда на тачанках… Катерина, уезжай отсюда… Подводу тебе дам и денег дам…
Покуда Вадим Петрович лежал в харьковском госпитале, времени для всяких размышлений было достаточно. Итак, он оказался по эту сторону огненной границы. Этот новый мир был внешне непривлекателен: нетопленая палата, за окнами падающий мокрый снег, скверная еда – серый супчик с воблой – и будничные разговоры больных о еде, махорке, о температуре, о главном враче. Ни слова о неведомом будущем, куда устремилась Россия, о событиях, потрясающих ее, о нескончаемой кровавой борьбе, участники которой – эти больные и раненые люди с обритыми головами, в байковых несвежих халатах – то спали целыми днями, то тут же, на койке, играли в самодельные шашки, то кто-нибудь вполголоса заводил тоскливую песню.
Вадима Петровича не чурались, но и не считали его за своего. А ему впору было разговаривать с самим собой – столько накопилось у него непродуманного и нерешенного, и столько воспоминаний обрывалось, как книга, где вырвана страница в самом захватывающем месте. Вадим Петрович принял без колебаний этот новый мир, потому что это совершалось с его родиной. Теперь надо было все понять, все осмыслить.
Однажды главный врач принес ему московские газеты. Вадим Петрович прочел их совсем иными глазами – не так, как бывало, заранее злобно издеваясь… Русская революция перекидывалась в Венгрию, в Германию, в Италию. Газетные строки были насыщены дерзостью, уверенностью, оптимизмом. Россия, раздавленная войной, раздираемая междоусобицей, заранее поделенная между великими державами, берет руководство мировой политикой, становится грозной силой.
Он начинал понимать будничное спокойствие товарищей в серых халатах, – они знали, какое дело сделано, они поработали… Их спокойствие – вековое, тяжелорукое, тяжелоногое, многодумное – выдержало пять столетий, а уж, господи, чего только не было… Странная и особенная история русского народа, русского государства. Огромные и неоформленные идеи бродят в нем из столетия в столетие, идеи мирового величия и правдивой жизни. Осуществляются небывалые и дерзкие начинания, которые смущают европейский мир, и Европа со страхом и негодованием вглядывается в это восточное чудище, и слабое, и могучее, и нищее, и неизмеримо богатое, рождающее из темных недр своих целые зарева всечеловеческих идей и замыслов…