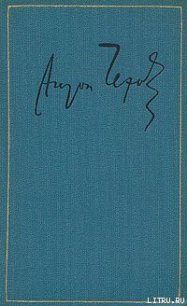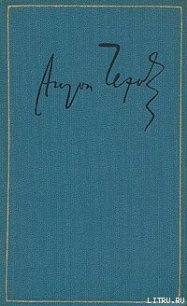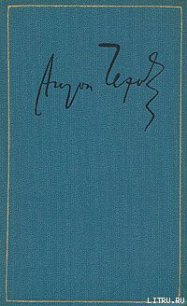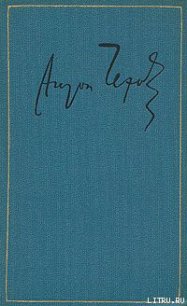Рассказы. Юморески. 1885—1886 - Чехов Антон Павлович (читать полную версию книги TXT) 📗
Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив два стакана бургонского, Бахромкин раскис и задумался… Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвизался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации… Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи… Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою…
«Чем чёрт не шутит, — подумал Бахромкин, — может быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле, что если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом? А?»
И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно.
«Правы люди, что не дают им чинов и орденов… — подумал он. — Они стоят вне всяких рангов и капитулов… Да и судить-то об их деятельности могут только избранные…»
Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого… Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. — «Это поэт!» — ответила она. И она, по его мнению, права… Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно…
«Вольная жизнь, не будничная… — думал Бахромкин, идя к постели. — А слава, известность? Как я широко ни шагай по службе, на какие ступени ни взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника… У них же совсем другое… Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки… Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством… моветонством…»
Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею… Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой.
«М-да… необыкновенная жизнь… Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить… На что плох Тредьяковский, и того помнят… Бррр… холодно!.. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»
Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину… Вот он, художник или поэт, темною ночью плетется к себе домой… Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пешком… Идет он жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош… У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит… Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно: швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее… Имя в почете, но личность в забросе… Вот он, утомленный и голодный, входит наконец к себе в темный и душный номер… Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского — увы! — нет… Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей… Воду наливай себе сам, раздевайся сам… ходи босиком по холодному полу… В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей… что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки…
Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом.
«Ну его к чёрту! — подумал он, нежась и сладко засыпая. — Ну его… к… чёрту… Хорошо, что я… в молодости не тово… не открыл…»
Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.
Самый большой город
В памяти обывателей города Тима, Курской губ., хранится следующая, лестная для их самолюбия легенда.
Однажды какими-то судьбами нелегкая занесла в г. Тим английского корреспондента. Попал он в него проездом.
— Это какой город? — спросил он возницу, въезжая на улицу.
— Тим! — отвечал возница, старательно лавируя между глубокими лужами и буераками.
Англичанин в ожидании, пока возница выберется из грязи, прикорнул к облучку и уснул. Проснувшись через час, он увидел большую грязную площадь с лавочками, свиньями и с пожарной каланчой.
— А это какой город? — спросил он.
— Ти… Тим! Да ну же, проклятая! — отвечал возница, соскакивая с телеги и помогая лошаденке выбраться из ямы.
Корреспондент зевнул, закрыл глаза и опять уснул. Часа через два, разбуженный сильным толчком, он протер глаза и увидел улицу с белыми домиками. Возница, стоя по колени в грязи, изо всех сил тянул лошадь за узду и бранился.
— А это какой город? — спросил англичанин, глядя на дома.
— Тим!
Остановившись немного погодя в гостинице, корреспондент сел и написал: «В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим».
Тоска
Кому повем печаль мою?.. [109]
Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег… Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать…
Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.
— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — Извозчик!
Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.
— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!
В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега… Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места…
— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Пррава держи!
— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.
Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.
— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.
Иона оглядывается на седока и шевелит губами… Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.
— Что? — спрашивает военный.
Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:
— А у меня, барин, тово… сын на этой неделе помер.
— Гм!.. Отчего же он умер?
Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:
— А кто ж его знает! Должно, от горячки… Три дня полежал в больнице и помер… Божья воля.
109
Кому повем печаль мою?.. — Начало духовного стиха «Плач Иосифа и быль»:
(П. Бессонов. Калеки перехожие, ч. I, М., 1861, стр. 187).