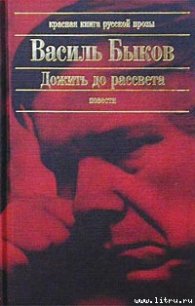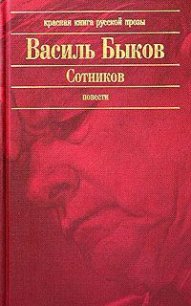Карьер - Быков Василь Владимирович (читать книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
— Так, Ревунов, сильнее! Сильнее бей, чего деликатничаешь, как с девкой! Во, правильно! Принимай, Сутчик!.. Так! А ну, Пахом, развернись!.. Ну, ты, так стену проломишь!
Этот мордатый Пахом мощным боксерским ударом посылал Агеева далеко вперед, и он, как рыба, хватая ртом воздух, выкручивался на ремне, изо всех сил стараясь увернуться от ударов в живот и в промежность. В противоположном углу его встречал Сутчик, субтильный паренек, с виду еще подросток, тот норовил, однако, ударить в лицо, два или три удара его не причинили Агееву большого вреда или боли, зато следующий угодил в глаз, и тот сразу стал затекать болезненной опухолью. Переставая им видеть, Агеев обвисшим мешком зигзагами летал по подвалу и жаждал только одного — чтобы все скорее закончилось.
— Стоп! — вдруг властно скомандовал Дрозденко, и он, враз обмякнув, повис на ремне. — Молчишь? Или что-нибудь скажешь?
Полицаи выжидательно замерли на своих местах, Дрозденко, четко ступая по бетонному полу на когда-то подбитых им каблуках, подошел к Агееву.
— Ну?
Руки у Агеева были скручены за спиной, сил оставалось немного, он собрал во рту сгусток перемешанной с кровью слюны и плюнул в лицо начальника полиции. Тотчас понял, что неудачно. Дрозденко был настороже и увернулся, а он в тот же миг полетел на ремне от сильного удара в челюсть. Изо рта хлынула кровь, и он через разбитые губы вытолкал языком обломки зубов.
Дойти до церкви уже не было сил, и двое полицаев потащили его под мышки. Сознание его словно растворялось в тумане, и он запомнил только свежий ветер на площади и тревожный вороний грай на деревьях у церкви. Телогрейку с него сняли в подвале, тонкая сатиновая рубашка была изодрана в клочья, правый рукав вовсе оторван, избитым, окровавленным телом Агеев остро ощутил холод, озноб, и это ненадолго взбодрило его. Дальше уже отчетливо чувствовал, как его волокли в церковный подвал и он то и дело оступался на камнях ступенек, но полицаи не дали упасть и скоро толкнули куда-то в темную, кажется, пустую камеру. По крайней мере, здесь он во весь рост вытянулся и, кажется, потерял сознание.
Пришел в себя от нестерпимой жажды, все в нем горело в жару, сжигавшем отбитые внутренности, но было тихо и, похоже, он был тут один. Простонал, слабо пошарил рукой, наткнувшись пальцами на что-то липкое — кровь, что ли? Тонкая соломенная подстилка, казалось, вся была пропитана этой вязкой липкостью — сыростью или кровью, Агеев перевернулся на бок и сделал попытку подняться на локте. Из груди вырвался сдавленный хрип.
— Эй, есть тут кто?
Но тут никого не было, вокруг господствовали мрак и безмолвие, и он упал на бок, снова погружаясь в беспамятство.
Он долго пролежал во власти фантасмагорических видений, бредя и страдая от боли и жажды. Все время ему чудилась вода. Сначала он видел ее в кувшине, из которого жадно пил, но теплая вода была совершенно не осязаемой и нисколько не утоляла жажды. Потом он пил что-то из странной пустой посудины, затем, переждав недолгое затемнение памяти, увидел себя припавшим к теплой болотной луже, которая снова не давала утолить жажду. Жажда была постоянной, непреходящей, менялись только способы ее воображаемого утоления, и это мучительное питье лишь разжигало ее. К тому же у него был жар, и кошмарные видения доставляли ему не меньше страданий, чем неутоленная жажда.
Наверное, так длилось долго, он перестал ощущать время и, приходя в себя, не имел представления, что на дворе, день или ночь. Но вот сознание его просветлело, он явственно ощутил себя на полу и, превозмогая острую боль в боку, которая ему особенно досаждала, пошарил руками. Руки его наткнулись на стену, и он с усилием, не сразу поднялся, прислонясь спиной к холодным сырым камням. Глаз можно было не открывать, в подземелье царила темень, кажется, тут не было никакого окна, или, возможно, на дворе была ночь. Жар его вроде начал спадать, но жажда осталась прежней, казалось, сознание стало ускользать от него, и, чтобы не опоздать, он закричал изо всей силы:
— Эй, пить! Пить дайте…
Вместо крика, однако, в подземелье глухо прозвучал и задохся его сдавленный хрип, который вряд ли кто услышал. Агеев снова свалился на пол
— на осклизлую подстилку из соломы.
Однако на этот раз не потерял сознания и, может, впервые подумал о своей судьбе. Хотя какая уж там судьба, думал он, остались крохи сил в изувеченном теле, и, наверное, чем они скорее исчезнут, тем лучше. В таких муках жить долго нельзя, да и незачем. Для чего жить, кому от этого польза? Разве что полицаям и немцам, которые даже на пороге смерти будут пытать, стараясь что-нибудь из него вытянуть. «А что если?..» — робко подумал он и тотчас ухватился за свою неожиданную мысль. Мысль о самоубийстве теперь показалась ему наиболее подходящей, он провел рукой по пояснице — нет, брючного ремня у него не было, наверное, сняли в подвале, когда освобождали от подвески. Может, разодрать на полосы вышитую сорочку? Но выдержит ли ее тонкая ткань его тело? Опять же, за что зацепить? Наверное, сначала следовало найти какой-либо крюк, гвоздь в стене, решетку на окне или еще что-то. Гонимый своим разгоревшимся замыслом, он начал обшаривать руками шершавые камни стены, ощупывая все ее выступы и впадины. Пока, однако, не попадалось ничего подходящего. Да и было низко, следовало поискать что повыше.
С усилием и дрожью в теле он привстал на коленях, больше опираясь на правое колено, так как распухшее левое плохо сгибалось, причиняя боль, пошарил над головой. Но всюду была почти ровная кирпичная стена без особенных выступов или углублений. Он не знал, в какой стороне находилась дверь, и боялся наткнуться на нее, чтобы по неосторожности не выдать себя за этим занятием. Все надлежало осуществить тайно и тихо. Но он еще не дошел до двери, как в подземелье послышались голоса, в стене напротив возникло светловатое пятнышко, оно становилось ярче, и вот с той стороны глухо стукнула, падая, дверная задвижка. Дверь отворилась. Низко над порогом сквозь закопченное стекло мерцал огонек «летучей мыши», он тускло высветил несколько пар испачканных грязью сапог. Передние из них переступили порог, и фонарь приподнялся, неярко освещая часть пола со слежалой соломой.
— Побудьте там, — бросил передний спутникам, и дверь за ним затворилась.
Это был Ковешко, который, приподняв фонарь, осветил Агеева на полу у стены.
— Да… Однако изукрасили они вас, — сказал он и вздохнул вроде вполне сочувственно.
Агеев обессиленно замер, упершись спиной в жесткие камни стены. Сочувственный тон Ковешко уже не мог обмануть его, знавшего, что может понадобиться этому человеку. Но зря стараются. Он не поддался Дрозденко, не поддастся и Ковешко, несмотря ни на какое его сочувствие. Ему уже была знакома истинная цена этому сочувствию. Однако Ковешко вроде бы не торопился раскрывать свои надобности, с которыми явился в подвал, и по своему обыкновению начал издалека:
— Я вам скажу, есть в человеке такое атавистическое чувство — насладиться чужим страданием. Им обладает вообще-то каждая натура, одна в большей, другая в меньшей степени, и тут уж ничего не поделаешь — природа! Во время войны или революции особенно. Как вы себя чувствуете? — неожиданно спросил он.
— Прекрасно! — выдавил из себя Агеев и не в лад со своими чувствами выкрикнул: — Воды! Дайте воды!
Тут же, однако, подумал, что не сдержался напрасно, вряд ли стоило просить воды у этого человека. К его удивлению, Ковешко с фонарем повернулся к двери.
— Эй, там! Дайте воды…
Он снова повернул фонарь, направляя свет в камеру, посветил на Агеева. Но Агеев молчал, мучимый жаждой и непроходящей болью в боку и особенно в челюсти. Он не имел ни сил, ни желания разговаривать с интеллектуальным земляком, да еще на столь отвлеченные темы. Но, кажется, Ковешко ничего другого от него и не требовал.
— Вот ведь как получается! Несчастная нация. Белорусины на протяжении всей своей истории исполняли чужие роли не ими написанных пьес. Таскали каштаны из огня для чужих интересов. Для литовских, для польских, для российских, разумеется. Что значит прозевать свое время, проспать свой поезд.