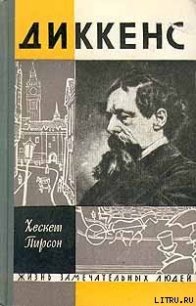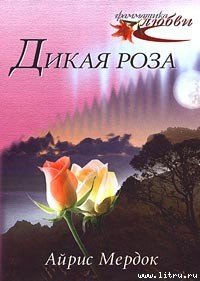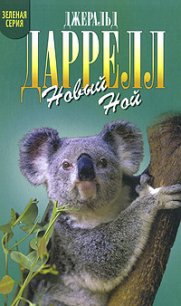Черный принц - Мердок Айрис (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗
Немного подумав, Джулиан сказала:
– По-моему, ты меня совсем не знаешь. Ты уверен, что любишь именно меня?
– Хорошо. Допустим, я могу довериться твоей скромности. Ну а теперь избавь меня от сурового и неуместного допроса.
Помолчав еще немного, Джулиан сказала:
– Значит, ты завтра уезжаешь? Куда?
– За границу.
– Ну, а мне что, по-твоему, делать? Перечеркнуть сегодняшний вечер и забыть?
– Да.
– И ты думаешь, это возможно?
– Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.
– Ясно. А сколько тебе понадобится времени, чтобы избавиться от этого, как ты выражаешься, несчастного увлечения?
– Я не говорил «увлечения».
– Ну, а если я скажу, что ты просто хочешь спать со мной?
– Говори себе, пожалуйста.
– Значит, тебе безразлично, что я думаю?
– Теперь безразлично.
– Потому что ты испортил всю радость своей любви, перенеся ее из фантастики в мир действительности?
Я поднялся и зашагал прочь, на этот раз я отошел довольно далеко. Я видел ее будто во сне: она бежала, как юная спартанка, пестрело синими тюльпанами красное шелковое платье, мелькали блестящие синие туфли, руки протянулись вперед. Она опять преградила мне дорогу, и мы остановились около грузовика с белыми коробками. Особенный, неопределимый запах налетел на меня, как рой пчел, неся ужасные ассоциации. Я прислонился к борту грузовика и застонал.
– Брэдли, можно до тебя дотронуться?
– Нет. Уходи, пожалуйста. Если хоть немножко жалеешь меня, уходи.
– Брэдли, ты растревожил меня, дай мне выговориться, мне тоже надо разобраться в себе. Тебе и в голову не приходит, как…
– Я знаю, тебе противно.
– Ты говоришь, что не думаешь обо мне. Ты и правда не думаешь!
– Что за ужасный запах? Что в этих коробках?
– Клубника.
– Клубника! – Запах юных иллюзий и жгучей мимолетной радости.
– Ты говоришь, что любишь меня, но я тебя совершенно не интересую.
– Нисколько. Ну, до свидания, слышишь?
– Ты, конечно, и не представляешь себе, что я могу ответить тебе взаимностью.
– Что?
– Что я могу ответить тебе взаимностью.
– Не дурачься, – сказал я, – что за ребячество.
Голуби, не понимая, день сейчас или ночь, прохаживались возле наших ног. Я посмотрел на голубей.
– Твоя любовь… как же это… сплошной солипсизм, раз ты даже не задумываешься, что могу чувствовать я.
– Да, – сказал я, – это солипсизм. Ничего не поделаешь. Это игра, в которую я играю сам с собой.
– Тогда незачем было мне говорить.
– Тут я совершенно с тобой согласен.
– Но неужели же ты не хочешь знать, что я чувствую?
– Я не собираюсь волноваться из-за того, что ты чувствуешь. Ты очень глупая маленькая девочка. Ты возбуждена и польщена, что немолодой человек ставит себя перед тобой в глупое положение. Возможно, с тобой это в первый раз, но уж несомненно – не в последний. Конечно, тебе хочется поисследовать ситуацию, покопаться в своих переживаниях, поиграть в «чувства». Мне это ни к чему. Я, конечно, понимаю, что тебе бы надо быть куда старше, сильнее и хладнокровнее, чтобы просто не обратить на все никакого внимания. Значит, ты вроде меня – не можешь поступить так, как следовало бы. Жаль. Ну, пошли от этой проклятой клубники. Пора домой.
Я зашагал прочь, на этот раз не так поспешно. Джулиан шла рядом. Мы свернули на Генриетта-стрит. Я страшно разволновался, но решил не показывать виду. Я чувствовал, что сделал шаг, который мог стать роковым, или, во всяком случае, не сдержался. Заявил, что не буду говорить о любви, а сам говорил о любви – и ни о чем другом. И это принесло мне горькую, сладостную, редкую радость. Объяснение, спор, борьба, раз начавшись, могли длиться и длиться и перейти в пагубную привычку. Если ей хочется говорить, разве у меня хватит сил отказаться? Умри я от такого разговора, я был бы счастлив. И я с ужасом понял, что даже за двадцать минут общения с Джулиан моя любовь безмерно возросла и усложнилась. Она и прежде была огромна, но ей недоставало частностей. Теперь же открылись пещеры, лабиринты. А ведь скоро… Сложность сделает ее еще сильней, значительней, неискоренимей. Прибавилось так много пищи для размышлений, питательной пищи. О господи.
– Брэдли, сколько тебе лет?
Вопрос застиг меня врасплох, но я ответил тотчас:
– Сорок шесть.
Трудно объяснить, зачем мне понадобилась эта ложь. Отчасти просто горькая шутка: я был так поглощен подсчетами урона, какой нанесет мне нынешний вечер, представляя себе, как увеличится боль утраты, ревности и отчаяния, что вопрос о том, сколько мне лет, был последней каплей, последней щепоткой соли, насыпанной на рану. Оставалось отшутиться. И конечно, она знала, сколько мне лет. Но, кроме того, в уголке мозга у меня шевелилась мысль: да нет же, нет мне пятидесяти восьми и быть не может. Я чувствую себя молодым, молодо выгляжу. Инстинкт подсказал, что нужно скрыть правду. И я хотел сказать «сорок восемь», но перепрыгнул на сорок шесть. Кажется, подходящий возраст, вполне приемлемый.
Джулиан помолчала. Она, кажется, удивилась. Мы свернули на Бедфорд-стрит. Тогда она сказала:
– О, значит, ты чуть постарше папы. Я думала, моложе.
Я беспомощно рассмеялся, сетуя про себя на эту нелепость, на это утонченное безумие. Конечно, молодежь не разбирается в летах, не ощущает возрастной разницы. Раз после тридцати – им уже все равно. А тут еще моя обманчивая моложавая маска. Ох, как нелепо, нелепо, нелепо.
– Брэдли, что за дикий смех, в чем дело? Пожалуйста, перестань, и поговорим, мне надо как следует поговорить с тобой.
– Ну что ж, поговорим. – Где это мы?
– Все перед тем же гостеприимным Иниго Джонсом.
Войдя в скромную калитку и миновав два задрапированных материей ящика для пожертвований, мы оказались у западного придела, где находился единственный вход в церковь. Я свернул в темный двор и вышел в сад. Дорожка упиралась в дверь, ведущую к обиталищу вечного покоя Лили, Уичерли, Гринлинга Гиббонса, Арне и Эллен Терри [42]. Кирпичный портик был исполнен домашнего, чисто английского изящества. Я сел на скамейку в темном саду. Чуть поодаль фонарь тускло светил на оранжевые розы, делая их восковыми. Шмыгнула кошка, беззвучно и быстро, как тень птицы. Когда Джулиан села рядом, я отодвинулся. Я ни за что, ни за что не дотронусь до нее. Чистое безумие продолжать препирательство. Но я ослабел от своего умопомрачения и от нелепости происходящего. После лжи о возрасте всякое благоразумие, все попытки самосохранения были уже ни к чему.
– Никого никогда еще не рвало из-за меня, – сказала Джулиан.
– Не обольщайся. Тут еще и Штраус.
– Милый старый Штраус.
Я сидел, как египтянин, – прямо, руки на коленях, – и глядел в темноту, где мелькала и резвилась тень кошки. Теплая рука вопросительно легко дотронулась до моих стиснутых пальцев.
– Не надо, Джулиан. Я правда сейчас пойду. Не мучай меня. Она отняла руку.
– Брэдли, ну что ты так холоден со мной?
– Пусть я кретин, но тебе-то зачем вести себя как девке?
– «Ступай в монахини, говорю тебе! И не откладывай. Прощай!» [43]
– Понимаю, ты развлекаешься вовсю. Но хватит, помолчи, не трогай меня.
– Не буду я молчать и буду тебя трогать.
Ее рука-мучительница опять легла на мою. Я сказал:
– Ты так нехорошо… себя ведешь. Я бы никогда… не поверил… что ты можешь быть… такой легкомысленной… и злой.
Я повернулся к ней и крепко сжал ее настойчивую руку повыше запястья. И вдруг меня словно ударило – в эту минуту я скорее угадал, чем увидел ее взволнованное, смутно улыбавшееся лицо. Тогда я крепко и уверенно обнял ее обеими руками за плечи и очень осторожно поцеловал в губы.
Есть мгновения райского блаженства, которые стоят тысячелетних мук ада, по крайней мере, так мы думаем, но не всегда ясно осознаем это в тот момент. Я – сознавал. Я знал, что даже если сейчас наступит крушение мира, я буду не в убытке. Я воображал себе, как целую Джулиан, но не мог вообразить сгустка чистой радости, белого накала восторга от касания губами ее губ, всем моим существом – ее существа.
42
Питер Лили (Питер ван дер Фаес, 1618-1680) – голландско-английский художник-портретист, представитель фламандской школы живописи. Уильям Уичерли (1640– 1716) – английский драматург. Гринлинг Гиббонc (1648-1721) – английский скульптор. Томас Аугустин Арне (1710-1778) – английский композитор. Эллен Алисия Терри (1847-1928) – английская актриса.
43
Шекспир. Гамлет, акт III, сцена 1. Перевод Б. Пастернака.