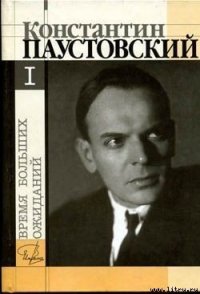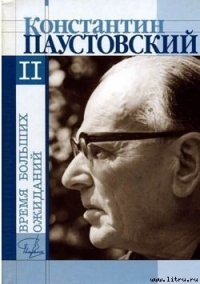Время больших ожиданий - Паустовский Константин Георгиевич (книги полностью бесплатно .txt) 📗
СКАНДАЛ С БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
В городе появились афиши цвета жидкого помидорного сока. Они сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов.
Наискось через всю афишу большими буквами была оттиснута черная надпись:
Внизу в скобках кто-то чернилами приписал:
Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов.
Изя предполагал, что надпись на афише об избиении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели.
Поэт Георгий Аркадьевич Шенгели был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов я пришел к мысли, что вражда к Шенгели была литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы.
Шенгели, по-моему, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин, противника, чем был им на самом деле.
Тонкое лицо Шенгели во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора. Изя говорил, что бюст Шенгели был бы украшением римского Форума.
– Или, может быть, Пантеона? – неуверенно спрашивал он меня, и в глазах его появлялась тревога.
Шенгели был высок, глаза его по-юношески сверкали. Он ходил по Одессе в тропическом пробковом шлеме и босиком. При этих внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным.
Эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов – юношей нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими «штучками», в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость.
Я впервые увидел Шенгели в Москве в начале мировой войны на поэзо-концерте Игоря Северянина. Он читал свои стихи в перерывах между чтением самого Северянина. То были стихи о его родной щебенчатой Керчи, о древнейшей земле, где «в глине одичалой спят сарматы, скифы, гунны, венды, – и неоглядные легенды неувядаемо томят».
Он сказал о себе:
Мне всегда казалось, что я мог бы с таким же увлечением, как и писательством, заниматься некоторыми другими вещами: мореплаванием, археологией или вторичным географическим открытием давно открытых земель.
Археология была наукой о древности. Древность с детства была воплощена для меня в беге ветра над ковылем, в спекшихся от зноя, старых, обезлюдевших землях, куда тот же ветер нет-нет да и донесет свежесть близкого взморья, в разбитом изразце, изготовленном худыми сизыми пальцами иранского гончара, наконец, в черной глиняной трубке в виде носа ахейского корабля, потерян ной запорожцем вблизи соленых озер Перекопа. Всегда меня привлекал цвет древних земель – ржавый, рудой, суровый.
Такими я всегда представлял себе старые области земли. Когда я впервые увидел эти области, то был радостно поражен тем, что красок, свидетельствующих о баснословном возрасте Земли, было гораздо больше, чем я предполагал.
В этом я окончательно убедился, когда попал в архипелаг, в Грецию и Италию. Там ржавая земля издалека проступала сквозь индиговый воздух утренних далей или сквозь величавую и мутную медь вечеров. Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом лилового ионического вечера.
Скупые и резкие краски древности больше соответствуют югу, чем северу. Там они заметнее. Там они чаще встречаются.
Где-нибудь в Риме вы заметите из окна отеля, как по свежим газонам сыплется искусственный дождь из вращающихся никелированных трубок, и тут же увидите стариннейшую землю совсем рядом, хотя бы на мощной арене Колизея.
Он кажется столь же старым, как небо над Римом, над близкими Апеннинами, над перегорелой в цементный прах Калабрией.
Калабрия дымится зноем, как исполинский пожар во время безветрия. Ее берега пахнут кремнем, из которого только что высекли искру. И если бы не густое, фиолетовое, свежее пространство морской воды, омывающей эту сухую страну, то вид ее вызывал бы у нас содрогание, как преддверие ада.
По существу чувство древности ничем не отличается от чувства вечности, от чувства эпох, уже пронесшихся над землей, и чувства будущего. Как бы там ни было, но человек не перестанет размышлять и видеть в своем воображении развороты и прошлых и будущих времен. Чувство времени с особой остротой возникает почему-то на морских побережьях.
Я отвлекся от постепенности повествования, но сейчас, пожалуй, можно сделать отступление и сказать несколько слов о том, что являет собой ощущение моря и морских побережий.
Море можно увидеть с палубы океанского корабля и с низкой палубы рыбачьей шаланды.
С палубы шаланды вы не только увидите море вблизи, но можете даже услышать совсем рядом крепкий запах морской воды как раз в то время, когда шаланда будет проходить мимо подводных камней. Они на мгновение обнажатся от перекатившей через них воды и откроют косматую мокрую шкуру из густых водорослей.
И вот в это мгновение – от волны до волны – водоросли выдохнут резкий запах, и вы сможете набрать его полные легкие – до головокружения, до темноты в глазах.
С высоких палуб лайнеров запаха моря не слышно. Его заглушают запахи горячего машинного масла, табака и ароматической жидкости для уборных.
Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чебрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями.