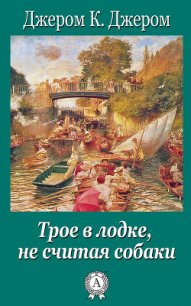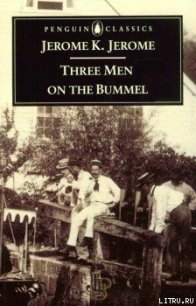Повести о Глассах - Сэлинджер Джером Дэвид (книги бесплатно без регистрации полные txt) 📗
Хочу еще на минутку остановиться на этой лестнице, то есть просто рассказать, не думая, куда, к черту, она меня заведет. Симор всегда взлетал на все лестницы бегом. Он их брал с ходу. Мне редко приходилось видеть, как он по-другому всходил на ступеньки. И это приводит меня к рассуждению на тему «сила, смелость и сноровка». Никак не могу себе представить, что в наше время кто-нибудь (впрочем, мне вообще трудно кого-то себе представить) – за исключением ненадежных гуляк-докеров, отставных армейских и флотских генералов и всяких мальчишек, занятых развитием своих бицепсов, – кто-нибудь еще верит в устаревший, но очень распространенный предрассудок, будто бы поэты – народ хилый, хлипкий. А я готов утверждать (особенно потому, что среди читателей – и почитателей – моей литературной стряпни много и военных, и спортсменов, любителей свежего воздуха, «настоящих мужчин»), что не только нервная энергия или железный характер, но и чисто физическая выносливость требуются для того, чтобы создать окончательный вариант первоклассного стихотворения. Как ни печально, но хороший поэт часто до безобразия небрежно относится к своему телу, но я считаю, что вначале ему было дано тело вполне выносливое и крепкое. Мой брат был одним из самых неутомимых людей, каких я знал. (Вдруг я ощутил бег времени.) Полночь только близится, а мне уже захотелось соскользнуть на пол и продолжать писать в лежачем положении. Мне только что пришло в голову, что Симор при мне никогда не зевал. Вообще-то он наверно зевал, но я этого не видел. И дело тут не в воспитанности: у нас дома никому зевать не мешали. Я сам зевал постоянно – а ведь спал я больше, чем он. Но все же спали мы всегда слишком мало, даже в детстве. Особенно в те годы, когда мы выступали по радио и вечно носили в карманах, по крайней мере, по три библиотечных абонемента, истертых, как старые паспорта, не было почти ни одной ночи, – и это в школьные дни! – когда свет в нашей комнате выключался раньше двух или трех часов утра, кроме тех минут после Отбоя, когда наш Старший Сержант, Бесси, делала обход. Если Симор чем-то увлекался, что-то исследовал, он часто мог, даже в двенадцатилетнем возрасте, вообще не ложиться спать две-три ночи подряд, и по нему это ничуть не было видно. Но бессонные ночи, очевидно, действовали только на его кровообращение, руки и ноги у него холодели. Примерно в третью бессонную ночь он хоть раз подымал голову и спрашивал меня – не чувствую ли я ужасный сквозняк. (В нашей семье ни для кого, даже для Симора, не бывало просто сквозняков – только «ужасные сквозняки».) Иногда он вставал с кресла или с полу, смотря по тому, где он читал, писал или думал, и шел проверять – не оставил ли кто-нибудь окно в ванной открытым. Кроме меня, только Бесси всегда угадывала, когда Симор не спал. Она судила по тому, сколько пар носков он надевал на себя. В те годы, когда он вырос из коротких штанишек и носил длинные брюки, она вечно заворачивала его штанину и смотрела – надел ли он заранее две пары носков для защиты от ночного сквозняка. Сегодня я – сам себе Песочный Человек. Спокойной ночи! Спокойной вам ночи, бесчувственные вы, до противности необщительные люди!
Многие-многие люди моего возраста и с таким же заработком, пишущие о своих покойных братьях в такой очаровательной, полудневниковой форме, обычно никогда не заботятся о том, чтобы указать дату и место пребывания. Не хотят впускать читателя в творческий процесс. Я поклялся, что я так поступать не стану. Сегодня четверг, и я сижу в своем ужасном кресле. Сейчас ночь, без четверти час, а сижу я с десяти вечера и пытаюсь, пока облик Симора оживает на этих страницах, придумать, как бы мне так его изобразить и Спортсменом, и Атлетом, чтобы не слишком раздражать ярых ненавистников всякого спорта. По правде сказать, я понял, что ничего не могу рассказать, не попросив предварительно извинения, и это меня раздражает и огорчает донельзя; дело в том, что я работаю на кафедре английской литературы, и, по крайней мере, двое из наших преподавателей уже стали признанными и широко публикуемыми лирическими поэтами, а третий мой коллега – блистательный литературный критик, кумир всего Восточного побережья и довольно выдающаяся фигура среди специалистов по Мелвиллу. И вся эта тройка (как вы понимаете, я для них тоже не из последних) со всех ног и, по-моему, слишком на виду у публики, опрометью бросается к телевизору с бутылкой холодного пива, как только начинается сезон баскетбольных соревнований. Увы, этот маленький «академический» камешек никого особенно не ушибет, потому что я и сам бросаю его из-за толстой стеклянной стены. Ведь я тоже всю жизнь был отчаянным болельщиком за баскетбольные команды, и нет сомнения, что у меня в мозгу есть участок, засыпанный вырезками из спортивных журналов, как птичья клетка – шелухой от зерен. Вполне возможно (и это будет последнее откровенное признание автора своим читателям), что одной из причин, почему я еще ребенком продержался на радио более шести лет, было то, что я мог рассказать Дорогим Радиослушателям о победе команды Уэйнера на этой неделе или произвести на всех огромное впечатление, объясняя, как Кобб в 1921 году (когда мне-то было всего два года) дал решающий бой. Неужто меня до сих пор это волнует? Неужели я еще не предал забвению те часы, когда я после обеда убегал от Обыденщины в надземном поезде с Третьей авеню в надежное, как материнское чрево, убежище, за третьим полем стадиона, где шла игра в поло? Не верится. А может быть, оттого и не верится, что мне уже сорок и что, по-моему, давно пора всем стареющим братьям писателям убраться с коррид и стадионов. Нет. Я знаю – ей-богу, знаю, – почему я не решаюсь вывести Эстета в роли Атлета. Годами я об этом не думал, но вот что я могу сказать. С нами по радио выступал один исключительно умный и очень славный мальчик, звали его Кэртис Колфилд, – потом он был убит во время одной из высадок в Тихом океане. Однажды он со мной и Симором забрел в Центральный парк, и там я вдруг обнаружил, что он бросает мяч так, будто у него две левых руки – словом, как большинство девчонок, – и я до сих пор помню, с каким выражением смотрел на него глубокомысленный Симор и как я ржал, вернее гоготал, по-жеребячьи, глядя на него. Как мне объяснить этот психоаналитический экскурс? Неужто я перешел на и х сторону? Повесить мне табличку с часами приема, что ли?
Скажи прямо: Симор любил спорт и всякие игры: и комнатные, и на стадионах, и сам играл либо замечательно, либо из рук вон скверно. И редко – кое-как. Года два назад моя сестра Фрэнни сообщила мне, что у нее сохранилось одно из самых Ранних Воспоминаний: будто она лежала «В Колыбели» (как некая Инфанта) и смотрела, как Симор играет в пинг-понг в соседней комнате. На самом деле «колыбель», о которой она упоминает, была старая потрепанная коляска на роликах, в которой Бу-Бу катала сестренку по всей квартире, и коляска подскакивала на всех порогах, пока не останавливалась там, где царило наибольшее оживление. Но вполне возможно, что в раннем детстве Фрэнни видела, как Симор играл в пинг-понг, а его незаметным и незапомнившимся партнером мог быть и я. Обычно, играя с Симором, я впадал в полное ничтожество. Казалось, что против меня играет сама многорукая Матерь Кали, да еще с ехидной улыбочкой, и без малейшей заинтересованности в счете очков. Он гасил, он резал мяч, он так по нему колотил почти через каждую подачу, как будто ожидал недолета, и потому было необходимо резать изо всех сил. Примерно три из пяти мячей Симора попадали в сетку или летели ко всем чертям мимо стола, так что, в сущности, противнику нечего было отбивать. Но он был так увлечен, что не обращал никакого внимания на эти мелочи, всегда удивлялся и смиренно просил прощения, когда его противник, не выдержав, громко и горько жаловался, что ему, черт подери, приходится лазать за мячами по всей комнате: под стулья, диван, рояль да еще в эти гнусные закоулки за книжными полками.
И в теннис он играл так же яростно и так же скверно. А играли мы с ним очень часто. Особенно, когда я учился в нью-йоркском колледже. Он уже преподавал в этом же заведении, и очень часто, в погожие дни, особенно весной, я сильно побаивался такой, слишком хорошей, погоды, потому что знал, что сейчас какой-нибудь юнец, как верный паж, падет к моим ногам с запиской от Симора, что, мол, день расчудесный и не сыграть ли нам партию-другую в теннис. Обычно я отказывался играть с ним на университетских кортах, так как боялся, что кто-нибудь из моих или же е г о приятелей – или, не дай бог, кто-то из его ехидных коллег, – увидит его, так сказать, в действии, поэтому мы обычно уезжали на корты Рипа или на Девяносто шестую улицу, на старый наш корт. И, совершенно зря, я придумал бессмысленную уловку – хранить ракетку и теннисные туфли не в колледже, в моем шкафчике, а дома. Тут было только одно преимущество. Обычно дома все выражали мне особое сочувствие, пока я переодевался для тенниса, и нередко кто-нибудь из моих братьев и сестер сострадательно провожал меня до самых дверей и молча ждал, пока подойдет лифт.