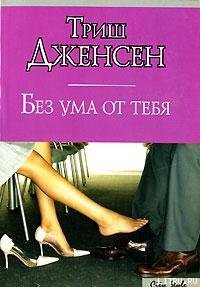Хмурое утро - Толстой Алексей Николаевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
– Ты права… Русский человек любит театр… У русского человека особенная такая ноздря к искусству. Потребность какая-то необыкновенная, жадность… Скажи – полтора месяца боев, истрепались люди – одна кожа да кости, ведь так и собака сдохнет… При чем тут еще Шиллер? Сегодня – будто это тебе в Москве премьера в Художественном театре. А возьми Анисью!.. Ничего не понимаю, – настоящий самородок… Какие движения, благородство… Какие страсти! Красавица при этом.
Размахивая руками, он опять заслонил свет, Даша сказала:
– Иван, ты можешь не ходить по комнате?..
В голосе ее было давно, давно им не слышанное раздражение: облокотясь о подушку, она глядела пристально потемневшими глазами. Иван Ильич сразу осекся, подошел к постели, присел на край. Не скрываясь, струсил.
– Иван, – и она села в постели, – Иван, я давно хотела тебе задать один вопрос. – Она быстро провела пальцами по глазам. – Это очень трудно, но я не могу больше…
По его лицу она увидела, что он понял – какой будет этот вопрос, и все же она сказала, потому что тысячу раз повторяла его про себя:
– Иван, ты уже совсем не считаешь меня за женщину?
У него начали подниматься плечи, он пробормотал невнятное, взялся за голову. Даша пронзительно глядела на него, у нее еще была какая-то надежда… Неужели это приговор?
– Даша, Даша, так не понимать… Все-таки нужно быть великодушной.
– Великодушной? (Вот он – приговор!..)
– Я тебя, Даша, так люблю… Ты меня можешь ненавидеть… Хотя, в сущности, не знаю – за что?.. Органически, так сказать, отталкиваться… Это мне очень понятно… Полюбил я тебя на всю жизнь, тяжело ли мне, легко ли, это – честное слово – не важно… Сердце мое со мной, так и ты со мной… Живи покойно, будь счастлива…
Даша, слушая, трясла головой, он, морщась, с усилием говорил:
– Почему-то я всегда представлял твои бедные ножки, – сколько они исходили в поисках счастья, и все напрасно, и все напрасно…
Даша выпростала из-под одеяла голые худенькие ноги, соскочила на земляной пол и, подбежав, погасила огонек на столе.
Иван Гора, вернувшись с Агриппиной со спектакля, зажег огарок и просматривал накопившиеся за день разные бумажонки, – такая у него была привычка: прежде чем лечь спать, привести все в порядок. Агриппина, не снимая шинели и шапки, сидела в стороне от него, на лавке около двери.
– Ты тоже ничего себе сыграла, – говорил он, зевая и поскребывая шею. – Не расслышал я, что ты там пропищала, ролишка-то уж очень маленькая… Но – Анисья, Анисья! – Опустив нос к свечке, усмехаясь, он листал бумажки. – Чересчур она, пожалуй, как это говорится по-вашему, юбкой вертела – мужика чувствует, это у нее есть… Поберечь ее нужно, поберечь… А что думаешь – мало таких революция наверх вытянула? В этом все и дело… На этом все и спланировано, народ не серый, нет… Богатый народ… Воюем-то уж больно расточительно… Машин бы нам надо… Вот прочти… – Он разгладил один из листков. – Захватили мы танк голыми руками… Ведь это же варварство… Будь у меня сын, – я бы ему, сопляку, на груди выжег: помни, не забывай, кому обязан счастьем, чьи кости в бурьянах белеются…
Агриппина, прислонившись к стене, закрыв глаза, сжав губы, вспоминала самое жалобное про себя, что могло припомниться… Как Иван Гора лежал ночью в степи, не шевелясь, не дыша, и ей было все равно тогда – живой он еще или уже мертвый. В винтовке у нее осталась последняя обойма… Агриппина не захотела уйти с другими, уж его-то она не бросила в той степи, ночью… Жалко, что там с той поры не валяются белые косточки Агриппины…
– Ты что спать не ложишься, Гапа?
Иван Гора заслонился ладонью от свечи и всмотрелся, – у Агриппины текли слезы из зажмуренных глаз, часто капали с длинных ресниц, черные брови высоко были подняты… Он собрал в полевую сумку листочки, подошел к Агриппине и присел на корточки перед ней.
– Ты чего, глупая… Устала, что ли?
– Жги, жги ему грудь, учи его, учи про белые косточки…
– Гапа, чего ты несешь?
Она ответила девчоночьим отчаянным голосом:
– На втором месяце я… Не видишь ты ничего… Знаешь одно – Анисья, Анисья…
Иван Гора тут же и сел у ног Агриппины. Рот у него самостоятельно раздвинулся, как у глупого…
– Гапа, а ты не врешь? Гапа, счастье какое, – неужто беременна? Милая ты моя, желанная, Гапушка…
И, когда он так сказал, она – уже низким, бабьим голосом:
– Да ну тебя, уйди с глаз долой…
Потянулась к нему, обняла и припала, все еще всхлипывая, с каждым разом короче и слабее…
Третий разгром атамана Краснова под Царицыном вызвал оживление всего Южного фронта, нависшего тремя армиями – Восьмой, Девятой и Тринадцатой – над Доном и Донбассом. Враждовавшее казачество, казалось, готово было махнуть рукой на вражду, повесить седла в сарай, – пускай их пачкают голуби, – завернуть в сальные тряпочки винтовки, зарыть поглубже в землю. Какой черт выдумал, что под большевиками нельзя жить! Земля никуда не делась, вон она дымится на оголенных буграх под весенним солнцем, и руки при себе, и кони просятся в хомут, волы – в ярмо…
Главком из Серпухова торопил с наступлением. Первоначальный порочный план главкома несколько менялся. Армии перестраивались на ходу: вместо движения по Дону, на юго-восток, красным армиям, в распутицу и бездорожье, приходилось поворачиваться на юго-запад, на Донец. Но делать это было уже поздно: столбовая дорога революции – пролетарский Донбасс – была закрыта крепко: за эти два месяца топтанья на месте дивизия Май-Маевского, ворвавшаяся в Донбасс, пополнилась сильными добровольческими частями, снятыми с Северного Кавказа после того, как там, в астраханских песках, была рассеяна Одиннадцатая Красная армия. На правом берегу Донца стояло теперь пятьдесят тысяч отборных белых войск под командой Май-Маевского, Покровского и Шкуро.
Весна началась дружно. Под косматым солнцем разом тронулись снега, налились синей водой степные овраги, вздулся Донец, невиданно разлились поймы. Так как железнодорожные линии в этих местах шли по меридианам, перегруппировку приходилось производить грунтом, по бездорожью. Армейские обозы вязли в непролазной грязи, отрываясь от своих частей. Все это тормозило и замедляло перегруппировку. Переправы через широко разлившийся Донец были заняты белыми. Наступление выливалось в затяжные бои. И тогда же в тылу, в замирившейся станице Вешенской, неожиданно вспыхнуло организованное деникинскими агентами упорное и кровавое казачье восстание. Белые аэропланы перебрасывали туда агитаторов, деньги и оружие.
Только одна левофланговая Десятая армия, согласно приказу главкома, продолжала двигаться на юг вдоль железнодорожной магистрали, отбрасывая и уничтожая остатки красновских частей.
Десятая армия шла навстречу своей гибели.
В степь, на полдень, откуда дул сладкий ветер, больно было глядеть, – в лужах, в ручьях, в вешних озерах пылало солнце. В прозрачном кубовом небе махали крыльями косяки птиц, с трубными криками плыли клинья журавлей, – провожай их, запрокинув голову, со ступеньки вагона!.. Куда, вольные? На Украину, в Полесье, на Волынь и – дальше – в Германию за Рейн, на старые гнезда… Эй, журавли, кланяйтесь добрым людям, расскажите-ка там, постаивая на красной ноге на крыше, как летели вы над Советской Россией и видели, что льды на ней разломаны, вешние воды идут через край, такой весны нигде и никогда не было, – яростной, грозной, беременной…
Даша, Агриппина, Анисья часто собирались теперь на площадке вагона, ошалелые от солнца и ветра. Эшелон шел на юг, а весна летела навстречу. Бойцы уже ходили в одних рубахах, расстегивая ворота. Иногда впереди, за горизонтом, постукивало, погромыхивало, – это передовые части Десятой выбивали из хуторов последние банды станичников. Без большого труда взята была Великокняжеская. Проехав ее, эшелон качалинского полка выгрузился на берегу реки Маныча и стал занимать фронт.
Сальские степи, по которым весной Маныч гонит мутные воды поверх камышей, пустынны и ровны, как застывшая, зазеленевшая пелена моря. Здесь, по Манычу, с незапамятных времен летели стрелы с берега на берег, рубились азиатские кочевники со скифами, аланами и готами; отсюда гунны положили всю землю пустой до Северного Кавказа. Здесь, сидя у войлочных юрт, калмыки слушали древнюю повесть о богатырских подвигах Манаса. Роскошны были эти степи весной, – напившаяся земля торопилась покрыться травами и цветами; влажные вечерние зори румянили край неба в стороне Черного моря; огромные звезды пылали до самого горизонта: из-за Каспия, как персидский щит, выкатывалось яростное солнце.