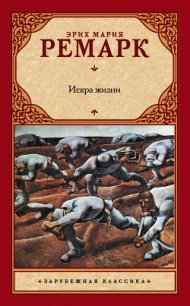Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса] - Ремарк Эрих Мария (электронная книга txt) 📗
Глава семнадцатая
Новая партия прибыла неожиданно. Железнодорожные пути к западу от города были на несколько дней выведены из строя. В составе одного из поездов, прибывших сразу же после восстановительных работ, было несколько товарных вагонов. Их должны были отправить дальше, в один из лагерей смерти. Однако ночью железнодорожное полотно опять разбомбили. Поезд простоял на станции целый день, потом людей отправили в лагерь Меллерн.
Это были только евреи, евреи со всех концов Европы — польские и венгерские, чешские и румынские, русские и греческие, евреи из Югославии, Голландии, Болгарии и даже из Люксембурга. Они говорили на разных языках; большинство из них не понимали друг друга. Даже общий для всех идиш, казалось, у каждого был свой. Вначале их было две тысячи. Осталось всего пятьсот, не считая пары сотен трупов в товарных вагонах.
Нойбауер был вне себя.
— Куда нам их девать? Лагерь и так переполнен! Тем более что у нас даже нет официального распоряжения принять партию заключенных! Мы к ним никакого отношения не имеем! Это же настоящий хаос! Никакого порядка! Что происходит — не понимаю!
Он метался по кабинету взад и вперед. Ко всем его личным заботам теперь прибавилось еще и это! Его чиновничья кровь кипела от возмущения. Он не понимал, к чему столько возни с людьми, приговоренными к смерти. Не находя выхода своей ярости, он подошел к окну.
— Как цыгане! Разлеглись себе перед воротами, со всем своим барахлом! Как будто мы не в Германии, а где-нибудь на Балканах!.. Вы что-нибудь понимаете, Вебер?
Вебер равнодушно пожал плечами:
— Кто-нибудь где-нибудь распорядился… Иначе бы их сюда не прислали.
— В том-то и дело! Кто-то где-то. А меня спросить не удосужились. Даже не предупредили. Не говоря уже о надлежащем порядке передачи людей. Этого, видимо, уже вообще не существует! Что ни день, то какая-нибудь новая служба. Эти, на вокзале, заявляют: «Люди слишком сильно кричали»! «Это оказывало деморализующее действие на гражданское население»! А нам-то какое дело? Наши люди не кричат! — Он посмотрел на Вебера. Тот стоял в непринужденной позе, прислонившись к двери.
— А вы уже говорили об этом с Дитцем?
— Еще нет. Да, вы правы. Это мысль.
Нойбауер велел соединить его с Дитцем и поговорил с ним несколько минут. Он заметно успокоился.
— Дитц говорит, нам нужно просто подержать их у себя одну ночь. Не распределять по блокам, не регистрировать — просто загнать внутрь и охранять. Завтра их повезут дальше. До утра железнодорожные пути обещали отремонтировать. — Он опять взглянул в окно. — Но куда нам их девать? У нас же все переполнено.
— Можно оставить их на плацу.
— Аппель-плац понадобится нам завтра утром. Это только внесет путаницу. И потом, эти балканцы загадят его за ночь. Нет, надо придумать что-нибудь другое.
— Можно сунуть их в Малый лагерь, на плац. Там они никому не будут мешать.
— А места там хватит?
— Хватит. Своих людей мы загоним в бараки. Обычно часть из них валяется снаружи.
— Почему? Что, бараки так переполнены?
— Это как посмотреть. Их можно упаковать, как сардины в банке. А если надо — и друг на друга.
— Одну ночь можно потерпеть.
— Потерпят. Никто из них не горит желанием случайно попасть в эту партию. — Вебер рассмеялся. — Они будут шарахаться от балканцев, как от холеры.
Нойбауер тоже чуть заметно ухмыльнулся. Ему нравилось, что его заключенные не желали расставаться с лагерем.
— Надо поставить часовых, — сказал он. — Иначе новенькие забьются в бараки, и тогда с ними хлопот не оберешься.
Вебер покачал головой.
— Об этом позаботятся те, кто в бараках. Они сообразят, что если мы не досчитаемся новеньких, то можем просто послать кого-нибудь из них, чтобы сошлось число.
— Хорошо. Назначьте кого-нибудь из наших и дайте им в помощь побольше капо и людей из лагерной полиции, в качестве часовых. И прикажите закрыть на ночь бараки в Малом лагере. Светомаскировку мы нарушать не можем, так что придется обойтись без прожекторов.
Ползущая сквозь сумерки колонна была похожа на стаю больных усталых птиц, которые уже не в силах были летать. Они едва волочили по земле заплетающиеся ноги, шатаясь из стороны в сторону, и если кто-нибудь падал, задние ряды шли прямо по нему, даже не замечая этого.
— Закрыть двери! — скомандовал шарфюрер, которому было поручено блокировать Малый лагерь. — Всем сидеть в бараках! Кто высунется, получит пулю!
Толпу загнали на плац, расположенный между бараками. Она медленно растеклась, словно лужа, в разные стороны; несколько человек в изнеможении опустились на землю, к ним присоединились другие; этот неподвижный островок посреди текущей людской массы быстро разрастался, и вскоре все до единого лежали на плацу, и вечер бесшумно спустился на них, словно медленный дождь из пепла.
Они спали. Но голоса их не смолкали. То там, то здесь, вспорхнув, как испуганные птицы, из снов и тяжелых кошмаров, они вонзались в ночь, чужие, гортанные, порой сливаясь в один протяжный, жалобный стон, и этот стон глухо бился о стены бараков, словно волны людского горя о неприступный ковчег спасенных.
В бараках всю ночь не могли уснуть. Эти звуки рвали душу на части, и уже через два-три часа многие, не выдержав, впали в истерику. Их крики услышали на плацу, и жалобный вой стал нарастать, в свою очередь усиливая вопли беснующихся в бараках. Этот жуткий, средневековый антифон [14]вскоре заглушил грохот прикладов, обрушившихся на стены бараков, выстрелы и перестук дубинок — то приглушенный, когда удары ложились на спины, то более звонкий, когда дубинки плясали по черепам.
Постепенно стало тише. Кричавших в бараках усмирили их товарищи, а толпу на плацу наконец одолел свинцовый сон изнеможения. Одни дубинки вряд ли заставили бы их замолчать: они уже почти не чувствовали ударов. Причитания, которые теперь были похожи на вздохи ветра, не затихали до самого утра.
Ветераны долго слушали эти звуки. Они слушали и содрогались от мысли, что и с ними может произойти то же самое. Внешне они почти ничем не отличались от людей, лежавших на плацу, и все же — спрессованные, как опилки в этих привезенных из Польши бараках для обреченных, посреди вони и смерти, посреди стен, испещренных прощальными иероглифами умирающих, корчась от боли из-за невозможности сходить в уборную, — они чувствовали себя счастливыми перед лицом этого безграничного чужого горя; бараки вдруг стали для них олицетворением родины, безопасности, и это казалось им самым страшным из всего, что они видели и испытали раньше…
Утром они проснулись от множества тихих, чужих голосов. Было еще темно. Причитания смолкли. Зато теперь кто-то скребся снаружи, царапал стены барака. Казалось, будто в них вгрызаются сотни крыс, стараясь проникнуть внутрь. Вначале скребли негромко, вкрадчиво, затем все настойчивее, и наконец, начали осторожно стучать в двери, в стены, послышались голоса, заискивающие, просительные, срывающиеся от предсмертного страха: на разных, непонятных языках люди с плаца просили впустить их.
Они молили укрывшихся в ковчеге отворить дверь и спасти их от потопа. Они уже не кричали, почти смирившись со своей участью, они затаились в темноте, под стенами и окнами, и тихо просили, поглаживали деревянные стены или скребли их ногтями и просили мягкими, темными голосами.
— Что они говорят? — спросил Бухер.
— Они просят, чтобы мы впустили их, ради их матерей, ради… — Агасфер смолк, не договорив. Он плакал.
— Мы не можем, — сказал Бергер.
— Да, я знаю…
Через полчаса поступил приказ отправляться. На плацу раздались первые команды. В ответ послышались громкие причитания. Команды становились все громче и злобнее.
— Ты что-нибудь видишь, Бухер? — спросил Бергер. Они примостились у маленького окошка на самом верхнем ярусе.
14
(от греч.antiphonos — звучащий в ответ) — песнопение, исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором; в подлиннике: Wechselklage.