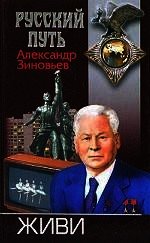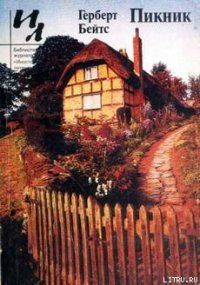Кстати о Долорес - Уэллс Герберт Джордж (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
Лично я ненавижу насекомых. Никогда в жизни никто так не испугал меня, как некий кузнечик, — гомол, что ли? — когда он ни с того ни с сего застрекотал прямо над моим ухом. Я предпочел бы, чтобы Создатель в пятый день отдохнул, а вместо этого прибавил бы что-нибудь к делам своим на будущей неделе; но уж поскольку насекомые были все-таки сотворены, приходится с этим примириться, безжалостно давя наиболее докучных из них, но не отказываясь извлекать пользу из прочих. Насекомым мы обязаны медом, шелком, бесценными нравственными уроками, а теперь еще и неисчислимым количеством сведений из области биологии. Фоксфильд уверяет, что, если бы не дрозофила, наши познания в области генетики не многого бы стоили; он утверждает также, что в его научной области нет таких общих проблем, которых нельзя было бы решить на примере насекомых. Я добился у него только, что обложка книги не будет испакощена портретом какой-нибудь особенно омерзительной пресмыкающейся или ползающей твари.
Я намеревался ограничить мои беседы с Фоксфильдом чисто деловыми вопросами, то есть окончательно договориться с ним насчет его книги. Я хотел бы подать ему увлекательный пример энергичности и действенности, умения обуздывать чрезмерную страсть к спорам, пример холодного и практического разума — словом, всех тех достоинств, которыми я в отличие от него, бесспорно, обладаю. Но поскольку мое открытие, что пессимизм является величайшей ошибкой, а жизнь как таковая есть счастье, заинтересовало его безмерно, и оба мы были искренне захвачены этой темой, то теперь, по возвращении в Торкэстоль, я не могу уже припомнить, был ли вообще между нами разговор о сроках выхода в свет «Чтения в четверг». Нужно будет, пожалуй, разрешить этот вопрос в письменной форме. Я непременно напишу ему, как только разделаюсь с этими заметками. Но Фоксфильд весьма ощутительно подорвал мое убеждение, а я не сумел до сих пор преодолеть эти сомнения. Я должен прежде всего избавиться от них, а потом уже энергично займусь делами книги. Аргументы, выдвинутые Фоксфильдом, именно потому произвели на меня сильное впечатление, что ему явно хотелось, чтобы я его переубедил.
Фоксфильд доказывает, что значительная часть живых существ вообще лишена понятия счастья. Пчелы или бабочки не имеют с ним ничего общего, им ничего не известно о счастье. Они испытывают не больше» и не меньше радости, чем капли воды в ручейке. Жизнь существ, достигших более высокой степени развития, чем такие чисто химические образования, как бактерии, управляется, как можно предположить, системой удовольствия и боли. Это означает, что определенные явления воздействуют на них притягательно, а другие — отталкивающе, но реакция корешка или, например, амебы является столь молниеносной и полной, что впечатление разряжается уже в самый миг возникновения. Разряжается еще прежде, чем успеет «запечатлеться». Не говоря уже о том, что амеба, насколько мы знаем, не обладает средствами, которые сделали бы возможной эту фиксацию! Корень, пробивающий себе дорогу в почве и обходящий неподатливый гранит, не испытывает чувств надежды или тревоги, так же, как струйка воды, текущая в пору прилива по извилистой линии к углублению в скале. «И, однако, видишь ли, их осмотрительное и непрестанное стремление вперед — это все наше воображение!» «Видишь ли», — говорит Фоксфильд и этим словцом как бы пригвождает своего собеседника. Это его любимое словечко. Произнося его, он выпячивает челюсть. В рукописи он ляпает его так часто, что оно становится своего рода иероглифом и составляет престранную особенность его стиля; это словцо автоматически стекает с его пера вместе с избытком Чернил. Я вынужден попросту вычеркивать это словечко Синим редакторским карандашом и даю указание корректору, чтобы он еще прошелся после меня.
Фоксфильд сомневается, чтобы воинственный маленький краб, который бочком выползает из-под моих ног, угрожающе шевеля клешнями, пока не скроется в песке, обладал большей способностью длительной фиксации впечатлений, чем, скажем, корешок растения. Крабы не выказывают ни малейших проявлений памяти, да Она им и ни к чему. Жизнь их составлена из вспышек тревоги, гнева либо голода, из миллиардов не связанных друг с другом, абсолютно разрозненных мгновений. Звук приближающихся шагов или тень человека вызывают в них страх, который, однако, тут же проходит и забывается. В мозговом ганглии маленького ракообразного возникает новая картина существования сразу же после исчезновения предыдущей; сознание его подобно сыпучему песку, в котором песчинки радости или страха не сцеплены друг с другом. Маленький краб не страдает от боли и не упивается радостями. В лучшем случае он живет как во сне. Краб или омар не более достойны сочувствия, чем, скажем, лист, уносимый ветром. Фоксфильд полагает, что семь восьмых животного мира проводят жизнь как бы в состоянии непрестанной анестезии. «С той, видишь ли, разницей, что этих тварей не нужно усыплять. Не нужно парализовывать их память, ибо на этом основано действие наркоза, поскольку у них память еще вовсе не зародилась».
Только тогда, утверждает Фоксфильд, когда мы видим создание, которое, воспринимая из внешнего мира впечатление, не разряжает этот импульс тут же, мгновенно, в каком-то внешнем действии; создание, которое способно припомнить нечто, почерпнуть из прошлого опыта, сомневаться и с заранее обдуманным намерением формулировать свое решение, только тогда мы вправе допустить, что оно испытывает состояния приятные или неприятные настолько продолжительно и определенно, что заслуживает нашего сочувствия. Тогда, стало быть, перед нами уже зачаток примитивного счастья и несчастья. Фоксфильд, однако, сомневается, чтобы какие-либо животные, кроме позвоночных, были одарены этой степенью сознания.
Тем не менее в знаменитом Аквариуме, в Ницце, кто-то уверял меня, что осьминоги обладают памятью. Фоксфильд охотно потолковал бы с этим человеком. Он с неохотой, со скрипом признает, что муравьи проявляют порой какую-то суетливую предусмотрительность. Что касается рыб, то они могут обладать сознанием лишь в той мере, в какой им обладает, скажем, наша печень или, в наилучшем случае, мозг человека, погруженного в глубокий сон, когда бесконтрольные и подсознательные видения движутся по мозговым клеткам, возникая из ничего и тут же, мгновенно, проваливаясь в ничто. Пресмыкающиеся никогда не резвятся и не предаются играм, есть в них какая-то бездумная, механическая серьезность. Только в мире существ, снабженных теплым покровом, мехом либо перьями, мы находим доказательства того, что они способны испытывать счастье. Птицы, кошки, собаки, телята и мыши способны сидеть спокойно и пребывать в задумчивости или бегать взапуски ради забавы; они бывают заинтересованы, увлечены, разочарованы или удручены. Изучение строения этих животных подтверждает, что они обладают органами, которые позволяют им удерживать впечатления в нервных центрах без мгновенной и немедленной внешней реакции; это уподобляет их человеку. Этим и обуславливается возникновение пристрастий или отвращений, симпатий или антипатий, счастья или несчастья. Создания эти — когда они зрением, слухом и обонянием воспринимают присутствие человека — проявляют порою некоторое любопытство, пытаясь добыть о нем более точную информацию. Новые впечатления наслаиваются друг на друга, собираются и влияют приятно или неприятно на их зафиксированные рефлексы. Итак, под влиянием внешних впечатлений что-то в их психике изменяется. Из этого следует, что сознание их обладает известной непрерывностью или протяженностью, аналогичной, родственной — если не идентичной — непрерывности человеческого сознания.
Я не спорил с Фоксфильдом о мотыльке, но защищал свой тезис, ссылаясь на ягнят, скачущих вприпрыжку по лужайке, и на котят, гоняющихся для забавы за собственным хвостом; но Фоксфильд, однако, заупрямился, только бы отказать вселенной в радости. Правда, устраняя радость, он устранял заодно и страдание. Он суживал территорию счастья, но чаша несчастья не перетянула, поскольку одновременно он сузил и территорию, доступную страданию.