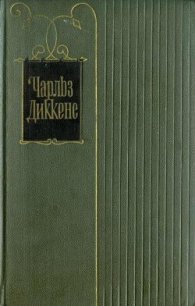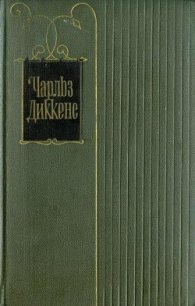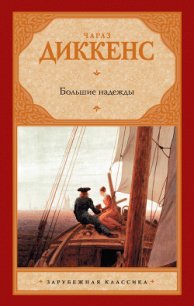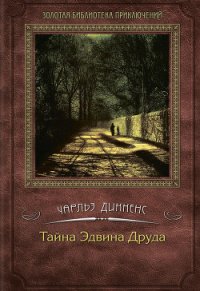Холодный дом - Диккенс Чарльз (читать книги онлайн TXT) 📗
– Как он рисуется! – сказала моя собеседница и с немым возмущением покачала головой, глядя на мистера Тарвидропа-старшего, который натягивал узкие перчатки, конечно не подозревая, как его честят. – Он искренне воображает себя аристократом! Подло обманывает сына, но говорит с ним так благосклонно, что его можно принять за самого любящего из отцов. У, я бы тебя на куски растерзала! – проговорила пожилая дама, глядя на мистера Тарвидропа с беспредельным негодованием.
Мне было немножко смешно, хотя я слушала пожилую даму с искренним огорчением. Трудно было сомневаться в ее правдивости при виде отца и сына. Не знаю, как бы я отнеслась к ним, если бы не слышала ее рассказа, или как бы я отнеслась к этому рассказу, если бы не видела их сама. Но одно так соответствовало другому, что нельзя было ей не верить.
Я переводила глаза с мистера Тарвидропа-младшего, работавшего так усердно, на мистера Тарвидропа-старшего, державшего себя так изысканно, как вдруг последний мелкими шажками подошел ко мне и вмешался в мой разговор с пожилой дамой.
Прежде всего он спросил меня, оказала ли я честь и придала ли очарование Лондону, избрав его своей резиденцией. Я не нашла нужным ответить, что, как мне прекрасно известно, я ничего не могу оказать или придать этому городу, и потому просто сказала, где я живу всегда.
– Столь грациозная и благовоспитанная леди, – изрек он, поцеловав свою правую перчатку и указывая ею в сторону танцующих, – отнесется снисходительно к недостаткам этих девиц. Мы делаем все, что в наших силах, дабы навести на них лоск… лоск… лоск!
Он сел рядом со мной, стараясь, как показалось мне, принять на скамье ту позу, в какой сидит на диване его августейший образец на известном гравированном портрете. И правда, вышло очень похоже.
– Навести лоск… лоск… лоск! – повторил он, беря понюшку табаку и слегка пошевеливая пальцами. – Но мы теперь уже не те, какими были, – если только я осмелюсь сказать это особе, грациозной не только от природы, но и благодаря искусству, – он поклонился, вздернув плечи, чего, кажется, не мог сделать, не поднимая бровей и не закрывая глаз, – мы теперь уже не те, какими были раньше в отношении хорошего тона.
– Разве, сэр? – усомнилась я.
– Мы выродились, – ответил он, качая головой с большим трудом, так как шейный платок очень мешал ему. – Век, стремящийся к равенству, не благоприятствует хорошему тону. Он способствует вульгарности. Быть может, я несколько пристрастен. Пожалуй, не мне говорить, что вот уже много лет, как меня прозвали «Джентльменом Тарвидропом», или что его королевское высочество принц-регент, заметив однажды, как я снял шляпу, когда он выезжал из Павильона в Брайтоне (прекрасное здание!), сделал мне честь осведомиться: «Кто он такой? Кто он такой, черт подери? Почему я с ним незнаком? Надо б ему платить тридцать тысяч в год!» Впрочем, все это пустяки, анекдоты… Однако они получили широкое распространение, сударыня… их до сих пор иногда повторяют в высшем свете.
– В самом деле? – сказала я.
Он ответил поклоном и высоко вздернул плечи.
– В высшем свете, – добавил он, – где пока еще сохраняется то немногое, что осталось у нас от хорошего тона. Англия – горе тебе, отечество мое! – выродилась и с каждым днем вырождается все больше. В ней осталось не так уж много джентльменов. Нас мало. У нас нет преемников – на смену нам идут ткачи.
– Но можно надеяться, что джентльмены не переведутся благодаря вам, – сказала я.
– Вы очень любезны, – улыбнулся он и снова поклонился, вздернув плечи. – Вы мне льстите. Но нет… нет! Учитель танцев должен отличаться хорошим тоном, но мне так и не удалось привить его своему бедному мальчику. Сохрани меня бог осуждать моего дорогого отпрыска, но про него никак нельзя сказать, что у него хороший тон.
– Он, по-видимому, прекрасно знает свое дело, – заметила я.
– Поймите меня правильно, сударыня; он действительно прекрасно знает свое дело. Все, что можно заучить, он заучил. Все, что можно преподать, он преподает. Но есть вещи… – он взял еще понюшку табаку и снова поклонился, как бы желая сказать: «Например, такие вот вещи».
Я посмотрела на середину комнаты, где жених мисс Джеллиби, занимаясь теперь с отдельными ученицами, усердствовал пуще прежнего.
– Мое милое дитя, – пробормотал мистер Тарвидроп, поправляя шейный платок.
– Ваш сын неутомим, – сказала я.
– Я вознагражден вашими словами, – отозвался мистер Тарвидроп. – В некоторых отношениях он идет по стопам своей матери – святой женщины. Вот было самоотверженное создание! О вы, женщины, прелестные женщины, – продолжал мистер Тарвидроп с весьма неприятной галантностью, – какой обольстительный пол!
Я встала и подошла к мисс Джеллиби, которая уже надевала шляпу. Да и все ученицы надевали шляпы, так как урок окончился. Когда только мисс Джеллиби и несчастный Принц успели обручиться – не знаю, но на этот раз они не успели обменяться и десятком слов.
– Дорогой мой, – ты знаешь, который час? – благосклонно обратился мистер Тарвидроп к сыну.
– Нет, папенька.
У сына не было часов. У отца были прекрасные золотые часы, и он вынул их с таким видом, как будто хотел показать всему человечеству, как нужно вынимать часы.
– Сын мой, – проговорил он, – уже два часа. Не забудь, что в три ты должен быть на уроке в Кенсингтоне.
– Времени хватит, папенька, – сказал Принц, – я успею наскоро перекусить и побегу.
– Поторопись, мой дорогой мальчик, – настаивал его родитель. – Холодная баранина стоит на столе.
– Благодарю вас, папенька. А вы тоже уходите, папенька?
– Да, милый мой. Я полагаю, – сказал мистер Тарвидроп, закрывая глаза и поднимая плечи со скромным сознанием своего достоинства, – что мне, как всегда, следует показаться в городе.
– Надо бы вам пообедать где-нибудь в хорошем ресторане, – заметил сын.
– Дитя мое, так я и сделаю. Я скромно пообедаю хотя бы во французском ресторане у Оперной колоннады.
– Вот и хорошо. До свидания, папенька! – оказал Принц, пожимая ему руку.
– До свидания, сын мой. Благослови тебя бог!
Мистер Тарвидроп произнес эти слова прямо-таки набожным тоном, и они, видимо, приятно подействовали на его сына, – прощаясь с отцом, он был так им доволен, так гордился им, всем своим видом выражал такую преданность, что, как мне показалось тогда, было бы просто нехорошо по отношению к младшему из Тарвидропов не верить слепо в старшего. Прощаясь с нами (и особенно с одной из нас, что я подметила, будучи посвящена в тайну), Принц вел себя так, что укрепил благоприятное впечатление, произведенное на меня его почти детским характером. Я почувствовала к нему симпатию и сострадание, когда он, засунув в карман свою «киску» (а одновременно свое желание побыть немножко с Кедди), покорно пошел есть холодную баранину, чтобы потом отправиться на урок в Кенсингтон, и я вознегодовала на его «папеньку» едва ли не больше, чем суровая пожилая дама.
Папенька же распахнул перед нами дверь и пропустил нас вперед с поклоном, достойным, должна сознаться, того блестящего образца, которому он всегда подражал. Вскоре он, все такой же изысканный, прошел мимо нас по другой стороне улицы, направляясь в аристократическую часть города, чтобы показаться среди немногих других уцелевших «джентльменов». На несколько минут я целиком погрузилась в мысли обо всем, что видела и слышала на Ньюмен-стрит, и потому совсем не могла разговаривать с Кедди или хотя бы прислушиваться к ее словам, – особенно, когда задумалась над вопросом: нет ли, или не было ли когда-нибудь джентльменов, которые, не занимаясь танцами как профессией, тем не менее тоже создали себе репутацию исключительно своим хорошим тоном? Это меня так смутило и мне так живо представилось, что «мистеров Тарвидропов», может быть, много, что я сказала себе: «Эстер, перестань думать об этом и обрати внимание на Кедди». Так я и поступила, и мы проболтали весь остаток пути до Линкольнс-Инна.
По словам Кедди, ее жених получил такое скудное образование, что письма его не всегда легко разобрать. Она сказала также, что если бы он не так беспокоился о своей орфографии и поменьше старался писать правильно, то выходило бы гораздо лучше; но он прибавляет столько лишних букв к коротким английским словам, что те порой смахивают на иностранные.