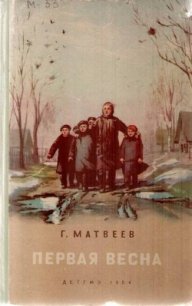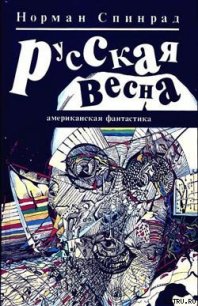История любовная - Шмелев Иван Сергеевич (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗
Я вдыхал голубую свежесть, и первое мое слово, которое я вспомнил, было -
Утро?…
Сколько было в этом немом звучании – утро!…
Я лежал, очарованный. Лился в меня поток – солнечный, голубой поток, – вливался жизнью. Занавески вздувались, опадали. Играли на них цветочки, и все за ними: струившийся за окошком тополь, золотисто-розовые пятна на косяке, от листьев, язычок задуваемой лампадки, утренний стук колодца, журчливые голоса на воле, звонкие петушиные разливы… – все трепетало, играло, жило. Я ловил и вбирал в себя очарование новых звуков, – открывшееся мне чудо…
«Господи… это – жизнь!…» – пело во мне беззвучно.
И струившиеся голубые занавески пели, и радостные на них ромашки, и пятна солнца, и радость холодочка… И вот, когда я лежал один, очарованный первым утром, забытым утром, которое вернулось, – радостный, нежный шепот коснулся сердца:
– Ми…лый…!
Первое слово, которое я услышал, придя оттуда, – Милый-Белая Паша – она спала на полу, возле моей постели, – наклонилась ко мне, придерживая на груди рубашку.
– Тоничка…!
Нежный, чудесный шепот! Я сейчас же узнал ее.
– Паша… – выговорил я слабо, – ты… Паша?…
– Нельзя, милый, – шепнула она, как ласка, – не говорите.
Она отошла куда-то. Опять явилась и дала мне попить из ложки.
– Господи… – слышал я радостный, торопливый шепот, шуршанье платья. – Слава Богу… и узнает уж!
Я понял, что Паша одевалась: мелькало и шуршало голубое. Я видел, как она подошла к окну, обдернула скрученную занавеску, оправила лампадку.
– Паша… – позвал я слабо.
– Нельзя! – зашептала она тревожно, подбежала на цыпочках и ласково потрепала мои губы. – Нельзя же… ну ради Бога!… – шептала она с мольбою, – доктор никак не велел… милый!…
Она нагнулась и поцеловала мне глаз, другой… – едва коснулась. Опять отошла, вернулась, поцеловала в губы. Опять отошла куда-то, и я увидал цветы… много цветов, в белых, чудесных крестиках. Их я как будто помнил, но как они называются – забыл. Чудесная белая сирень! Пышная, свежая, как утро. Паша достала ветку, провела по моим глазам, пощекотала…
– Милый…
Нагнулась, – я видел через ветку, – поцеловала в губы, под самой веткой.
– Ласточка ты моя… залетная!…
Мне было сладко от этой ласки – в первое утро жизни.
Меня заливало холодочком, зеленовато-белым, душистым, влажным. Через этот прохладный свет, через пышную веточку сирени, я видел новую комнату, новые занавески, вздувавшиеся от ветра пузырями. Они набегали на меня, обливали сияньем, небом…
Пропала Паша. Ушли голубые занавески. Ушло утро.
Я проснулся от щекотанья, от холодка. По мне струилось, приятно холодило. Радостный, звонкий вскрик раздался за моими подушками, и я увидал мордочку сестренки, тонкие ее пальчики, бегавшие у меня за шеей, за рубашкой. Я увидал миндалик, выпрыгнувший, сверкнувший, чудесно-белый… еще миндалик, выюркнувший у крестика на моей груди… Миндалики брызгали на меня, прыгали рыбками за шеей, скользили под рубашкой. Это моя сестренка сыпала мне миндалики, детскую свою радость. Я поймал у себя на шее один миндалик, холодный, мокрый, – и раскусил… Какая радость!… А она прыгала и хлопала в ладошки:
– Смотрите, смотрите… он совсем выздоровел!… То-ничка наш совсем здоровый… он съел миндалик!
Кто-то сказал – шшш… шшш… Зеленое окно за занавеской закрылось темным. Комната вдруг пропала. Сияла одна лампадка. Скрипнула тихо дверь.
Дремавшей мыслью прошло во мне – чудесное, радостное -
Завтра…
XLV
Завтра пришло и прошло. Я понемногу поправлялся. Закрывшееся болезнью прошлое начинало сливаться с новым. Серафима… О ней я боялся думать, но она выступала ярко и казалась совсем не Серафимой, а какой-то другой, без имени. Она будила во мне острое ощущение чего-то ужасно стыдного, связывалась со страшным и отвратительным, с Пастуховым домом, с ужасным черным быком, с грехом. Я мысленно напевал молитвы, но она выплывала и томила. В этом чувстве чего-то ужасно стыдного, в ощущении грязного чего-то, к чему я прикоснулся и что всегда связывалось с нею, были и сожаление, и тоска, и боль. Что-то я потерял, и оно уже не вернется. Дурного я ничего не сделал, – и все же меня томило, и было чего-то стыдно. Самым темным – вспоминалась прогулка с нею, ее разгоревшееся лицо, обнимавшие до щекотки и душившие меня руки, одуряющие духи, страстный и торопящий шепот, темневшие надо мной деревья… и так потрясший меня мертвый стеклянный глаз, в сине-багровых веках. В этом мертвом стеклянном взгляде вдруг мне открылось что-то, ужасно стыдное и отвратительно-грязное, связанное с грехом и – смертью?… Оно закрыло-замазало нежный, чудесный образ, живую Серафиму, чистую, первую мою, женщину-девушку…
«Она скрывала… обманывала меня!… – горело во мне стыдом. – Кривая… стеклянный глаз… грязный, ужасный глаз!., я мог полюбить такую… писал ей такие письма и так вознес!…»
Вся ее красота, все ее обаяние – пропали. Серафима ушла. Осталась тоска утраты чего-то светлого.
Сидя один, в подушках, я плакал о ней, о прежней. И было до боли стыдно. Неужели – знают?! Я боялся спросить об этом. Знают?… – вглядывался я в тетю Машу, пытаясь прочесть в лице. Мне иногда казалось, что тетя Маша по-особенному поджимает губы и странно как-то поглядывает, словно хочет спросить о чем-то. Знает?… Сестра Лида, «прочитавшая все романы», поглядывала тоже как-то, с загадочной усмешкой. Знают…
Как-то, давая мне микстуру, Лида переглянулась с теткой и надула от смеха щеки.
– Ну, пей… писатель… – сказала она с намеком, – пей, «царица души моей»!…
Меня обварило варом. Тетя Маша зафыркала. «Царица души моей»?! Но это же… из письма к ней!… Они узнали, читали мои бумажки, черновики…?!
– Ты чего это разгорелся так… заморгал?… – спросила Лида насмешливо. – А?… не болит головка… «прекрасный ангел рая»?… Нет, холодная, ничего… – приложилась она губами.
– А глазки как у него? – участливо наклонилась тетя Маша. – Ничего, шустрые, ясненькие… Его глаза… – сказала она баском, словно декламировала на сцене, – «достойны кисти художника – Творца»!…
Меня обожгло стыдом, я даже задохнулся, и глаза налились слезами. А Лида побежала к двери, сделала так руками, словно посылала поцелуи, и пропела:
– «Ваши глаза, как звезды ночи, будут отныне озарять для меня потемки будущего… и поведут меня в прекрасное далеко!…»
Она прыснула и выскочила из комнаты. За ней убежала и тетя Маша.
Я вскрикнул в бешенстве:
– Подло!., подло так поступать!… Утащили мои бумажки… опозорили все мое!…
И я закричал в истерике. Они вбежали, обмотали мне голову мокрым полотенцем и стали перекоряться, что «так нельзя». Я неистово закричал: «Мозг мой горит пожаром!» – и повалился без памяти. Они перепугались, начали целовать меня и уговаривать: «Ничего, успокойся же, Тоничка… Боже мой!…» Лида упала на колени перед образами и принялась бешено креститься, – я это отлично видел, сощурив глаз. Они все плакали надо мной, притащили тазы со льдом и снегом, хотели даже приложить к пяткам горчичники. Мне это надоело, и я простонал чуть слышно:
– Дайте же мне хоть умереть спокойно… Я в полном сознании, но… может повториться… Оставьте меня, уйдите… хочу уснуть.
Крестясь и озираясь, они вышли на цыпочках. С этого случая – они больше не издевались, до полного моего выздоровления. Они узнали?! Боже мой, а где же ее письма?! Меня охватило ужасом. Были они в шкатулке… Значит, обшарили, все узнали!…
Заглянула Паша.
– Ну, как вы… Тоничка?… – спросила она робко.
– Паша… – умоляюще сказал я. – Я совсем здоров, но… меня терзают… меня истерзали, Паша!… – не мог я сдержать рыданий. – Они… Дай мне шкатулочку от Сергия-Троицы… и уйди. Мне надо успокоиться.
Она принесла шкатулочку. Я перебрал все «редкости». Даже записочка Фирочки пропиталась ее духами, даже кра-бья лапка и хрустальное Пашино яичко. Хлынуло в меня прошлое, чудесная, неземная Серафима… – и стыд, и грех. Но розовых писем не было. Они утащили мои письма, мое последнее!… И я зарыдал над заветной моей шкатулочкой, в серебряной-золотой фольге, с чудеснейшими «елочками» в морозце. Я долго плакал, накрывшись одеялом. Плакал и от обиды, и от стыда, и от обмана, и от сознания, что было такое чудесное и ушло, замазалось чем-то гадким.