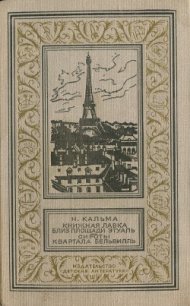Флаги на башнях - Макаренко Антон Семенович (полная версия книги .TXT) 📗
Игорь храбро поднялся, но как только открыл рот, так и почувствовал, какое это трудное дело — говорить на общем собрании!
— Товарищи! Разве это правильно, скажите пожалуйста, берет Ванда Стадницкая просто опилки, будьте добры… не угодно ли вам получить театральное кресло? Попробуйте взять в руки, например, проножку, посмотрите, пожалуйста…
— Говори по вопросу, — остановил Торский.
— А?
— Что ты нам о проножках, ты говори по вопросу о выступлении Зырянского.
— Ну да! Я же и говорю. Надо войти все-таки в положение. Войдите в положение, будьте добры.
— В чье положение? — спросил с места Зорин.
Игорь мельком поймал его вредный взгляд и храбро взмахнул рукой. Черт его знает, жест вышел такой неуклюжий, какой бывал у Миши Гонтаря: рука прошлась, правда, очень энергично, но как будто не в ту сторону, куда следует, а потом остановилась где-то против живота и самым дурацким видом торчала в неудобном, деревянном положении. Игорь даже посмотрел на нее, но тут же, хоть и мельком, увидел чью-то коварную девичью улыбку. Во всяком случае, нельзя же просто молчать! В этот момент почему-то вспотел его лоб, Игорь вытер его рукавом и неожиданно для себя довольно громко вздохнул. Легкий-легкий, еле слышный смех быстро прошумел и улетел куда-то за стены «тихого» клуба. Игорь поднял глаза, прислушался, еще раз вздохнул и… сел на место.
Теперь все рассмеялись громко, Игорь рассердился. Он снова вскочил и закричал:
— Да чего тут смеяться! Пристали к человеку: опоки, опоки! Думаете, ему легко, Соломону Борисовичу? Сами говорите — триста тысяч заработать за год, а без Соломона Давидовича черта с два заработаете! Вы еще чай пьете…
— А вы? — крикнул кто-то.
— Да и я, что ж? Мы еще чай пьем, а он уже в город бежит, а прибежит обратно, так на него со всех сторон… скажите, будьте добры, разве это жизнь? А я уважаю Соломона Давидовича, честное слово, уважаю!
И, удивительное дело, вдруг колонисты захлопали. В первый момент Игорь даже не поверил своим ушам: ворвались в его речь непривычные посторонние звуки, оглянулся: аплодируют, аплодируют ему, Игорю Чернявину, хотя лица улыбаются по-прежнему иронически. Игор залился краской, махнул рукой, захотелось куда-нибудь спрятаться от смущения, но тяжелая рука Нестеренко легла на колено:
— Молодец, Игорь, молодец, ты хороший человек!
Игорь услышал голос Захарова. Захаров сразу начал с его фамилии.
— Чернявин сказал то, что все мы думаем. Опоки — важная вещь, Зырянский прав. А человек еще важнее, друзья! Воленко, я уважаю тебя за то, что ты выступил на защиту старика. Я думаю, что пришла пора поговорить о Соломоне Давидовиче как следует. Только то, что я скажу, прошу держать в секрете. Вы это можете?
Захаров, улыбаясь, оглядел собрание: все лица утвердили одно: разумеется, они могут, эти двести колонистов, они способны что угодно сохранить в секрете. Кто-то подозрительно посмотрел на девочек, но кто-то из девочек ответил решительным протестом:
— Ты чего смотришь? Я вот за твой язык не ручаюсь…
— Мой язык? Ого!
Захаров понял, что в секрете он может быть уверен.
— Я вижу: вы не расскажете Соломону Давидовичу, это очень хорошо. Так вот — давайте договоримся. Мы должны требовать от него порядка, мы должны добиваться и капитального ремонта, и хорошего качества продукции, и новых опок. Это мы должны. Но давайте договоримся. Мы все это будем делать в дружеском тоне, во всяком случае, совершенно вежливо. Имейте в виду: вежливость — для некоторых трудная вещь, нужно учиться быть вежливым. Не нужно так думать: если человек вежливый, значит — он шляпа. Ничего подобного. Вот, например, можно закричать, замахать руками, засверкать глазами: «Убирайся вон, такой, сякой, подлец!» — а можно очень вежливо сказать: «Будьте добры, уходите отсюда». Последнюю фразу Захаров сказал действительно с чрезвычайной вежливостью, даже поклонился чуть-чуть, но непреклонный нажим этой просьбы был так убедителен и так уверен, что общее собрание не выдержало: зашумело, засмеялось, кто-то сказал:
— Так это, если свои!
— Совершенно верно. Я про своих и говорю. А если чужие — тоже дело не в ругательстве, а в силе. Винтовка лучше всякой ругани. Но ведь Соломон Давидович человек свой, это мы хорошо знаем, и Чернявин хорошо сказал. Наше производство старенькое, кустарное, и работать на нем трудно, и управлять им тоже нелегко. Все понятно, ребята?
Собственно говоря, все было понятно. Только Зырянский уходил из «тихого» клуба с недовольным лицом и все повторял:
— Вот посмотрим, как он к первому октября сделает!
Зато Чернявин взлетел по лестнице радостный: он сказал довольно хорошую речь, первую речь в колонии, и Захаров с ним согласился. А то они, в самом деле, думают, что Чернявин обыкновенный новенький. Пожалуйста, воспитанник Чернявин? Давно уже было не по себе Чернявину. Ваня Гальченко хороший пацан, но он пришел в колонию через месяц после Игоря, а ему уже дали значок. В восьмой же бригаде никто не подымал вопроса о Чернявине. К нему относились хорошо, признавали его начитанность, признавали справедливость его суждений по многим вопросам жизни, но не одна душа не заикнулась о том, чтобы Чернявина представить на общее собрание и сказать: так и так, ничего себе человек: живет, работает, учится. Неужели все помнили несчастный поцелуй в парке перед спектаклем? Или отказ от работы в первые дни?
И — удивительное дело — не успел Чернявин об этом подумать, как Нестеренко сказал:
— Я так полагаю, хлопцы, что довольно Чернявину ходить воспитанником. Может, конечно, у него и есть разные фантазии, но я так думаю, что это само пройдет. А чего в нашей бригаде воспитанники будут торчать? Какое твое мнение, Санчо?
А Санчо, тоже хитрая тварь, закричал удивленным голосом:
— Да я давно так думаю! Чего, в самом деле!
23. В ЖИЗНИ ВСЕ БЫВАЕТ
Крейцер приехал вместе с толстым человеком, водил его по колонии, все показывал, а больше всего показывал пацанов и говорил:
— А вот этот… Вы такого видели? Кирюшка, а ну иди сюда… как живешь?
Кирюшка мог бы кое-что рассказать о своей жизни, но посмотрел на толстяка, и охота у него пропала. У толстяка было бритое, выразительное лицо, только в данный момент оно ничего не выражало, кроме брезгливости, да и то сдержанной.
— Вы еще, дорогой, ничего не понимаете, — сказал Крейцер.
Толстяк ответил стариковским басом:
— Я — инженер, Михаил Осипович, и не обязан понимать всякую романтику.
— Хэ, — коротко засмеялся Крейцер, — ты, Кирюша, оказывается, существо романтическое.
Кирюша моргнул в знак согласия и убежал. Володя трубил «совет бригадиров», а потом спросил у Кирилла:
— Чего он тебе говорил, старый?
— Непонятное что-то! Говорит — я инженер!
В комнате совета бригадиров еле-еле поместились. Каким-то ветром разнелось по колонии, что приехавший инженер будет говорить о новом заводе. И Ваня Гальченко одним из первых занял место на диване. Было много и взрослых: пришли учителя, мастера, даже Волончук залез в угол и оттуда поглядывал скучно и недоверчиво.
Крейцер прищуренным глзаом оглядел колонистов, перемигнулся с Захаровым и сказал:
— Так вот, ребята. Дело у нас начинается. Познакомьтесь — это инженер Петр Петрович Воргунов. Насчет нового завода у нас с ним есть план, интересный план, очень интересный, у нас, тами, в городе, этот план понравился, будем делать такой завод — завод электроинструмента. Петр Петрович, пожалуйста.
Инженер Воргунов занял весь стол Вити Торского. Он не посмотрел на колонистов, не ответил взглядом Крейцеру; вид у него был тяжеловато-хмурый. Большая голова с редкими серыми волосами поворачивалась медленно. Он открыл небольшой чемоданчик и достал из него хитрую блестящую машинку, похожую на большой револьвер. С некоторым трудом он взвесил ее на руках и начал говорить голосом негромким, отчужденным, видно, что по обязанности.