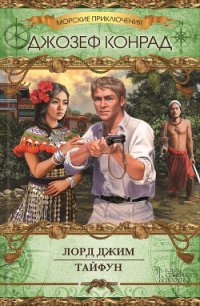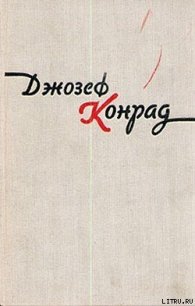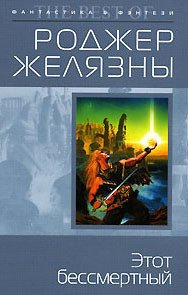Лорд Джим - Конрад Джозеф (книги бесплатно txt) 📗
Должно быть, вы думаете, что и я романтик, но это не верно. Я трезво передаю вам то впечатление, какое произвели на меня юность и странный, тревожный роман, который довелось мне увидеть на моем пути. Я с интересом следил за его… ну скажем – за его счастьем. Он был любим ревниво; но почему она ревновала и чем вызвана была эта ревность – я не могу сказать. Страна, народ, леса были ее сообщниками, сторожили его бдительно и согласно, и в этом была тайна и непобедимая сила. Не к кому было, так сказать, апеллировать; он сам своей властью держал себя в плену. А она хотя и готова была положить к его ногам свою голову, но неумолимо стерегла свое завоевание, словно его трудно было удержать.
Даже Тамб Итам, следовавший с откинутой назад головой по пятам за своим господином, свирепый и, словно янычар, вооруженный крисом, топором и копьем (не говоря уж о ружье Джима), – даже Тамб Итам напускал на себя вид неумолимого стража, точно угрюмый преданный тюремщик, готовый отдать жизнь за своего пленника. Когда мы поздно засиживались по вечерам, его молчаливая неясная фигура, неслышно ступая, ходила под верандой, или, подняв голову, я неожиданно замечал его, неподвижно стоящего навытяжку, в тени. Как правило, он вскоре исчезал бесшумно, но, когда мы вставали, появлялся снова, как бы выскакивал из-под земли, готовый выслушать приказания, какие пожелает отдать Джим.
Девушка, кажется, тоже никогда не ложилась спать раньше, чем мы расходились на ночь. Не раз видел я из окна своей комнаты, как она и Джим тихонько выходили на веранду и стояли, облокотившись на грубую балюстраду, – две белые фигуры, стоявшие бок о бок; его рука обвивала ее талию, ее голова покоилась на его плече. Их легкий шепот доносился до меня, вкрадчивый, нежный, спокойно-грустный в тишине ночи, словно один человек беседовал сам с собой на два голоса.
Позже, ворочаясь на постели под сеткой от москитов, я слышал легкий скрип, тихое дыхание, кто-то осторожно откашливался, – и я догадывался, что Тамб Итам все еще бродит вокруг. Хотя он имел дом, «взял себе жену» и не так давно имел счастье стать отцом, но, кажется, каждую ночь он спал на веранде, – во всяком случае, пока я там гостил. Очень трудно было заставить этого верного и угрюмого слугу говорить. Даже Джим мог добиться от него лишь отрывистых, коротких фраз. Казалось, он давал вам понять, что разговор не его дело. Самую длинную фразу, какую он произнес добровольно, я услыхал от него однажды утром, когда, вытянув руку, он указал на Корнелиуса и сказал:
– Вот идет назарянин. [26]
Не думаю, чтобы он обращался ко мне, хотя я стоял подле него; казалось, его целью было привлечь негодующее внимание вселенной. За этим последовало упоминание о собаках, о запахе жареного, что я счел удивительно уместным.
Двор – большой четырехугольник – был раскален палящими лучами солнца, и, купаясь в необычайно ярком свете, Корнелиус пробирался через открытое пространство с таким видом, будто подкрадывался тайком. В нем было что-то омерзительное. Его медленная походка напоминала движения отвратительного жука, у которого с мучительным трудом передвигаются одни ноги, а тело скользит, как бы застывшее. Полагаю, он направлялся прямо к тому месту, куда хотел попасть, но одно его плечо было выставлено вперед, и казалось, что он пробирается бочком. Я часто видел, как он медленно кружил у сараев, словно шел по чьему-то следу, или шмыгал перед верандой, украдкой поглядывая наверх, и не спеша скрывался за углом какой-нибудь хижины.
То, что он мог свободно здесь разгуливать, доказывало нелепую беспечность Джима или же бесконечное его презрение, ибо Корнелиус сыграл, выражаясь мягко, очень сомнительную роль в одном эпизоде, который мог окончиться для Джима фатально. В действительности же этот эпизод способствовал его славе. Но славе его способствовало все. В этом была ирония его судьбы: он, который однажды был слишком осторожен, теперь жил словно заколдованной жизнью.
Следует вам знать, что он очень скоро покинул резиденцию Дорамина – слишком рано, если принять во внимание грозившую ему опасность, и, конечно, задолго до войны. Его подстрекало чувство долга; он говорил, что должен блюсти интересы Штейна. Не так ли? С этой целью он пренебрег всякой осторожностью, переправился через реку и поселился в доме Корнелиуса. Как этот последний ухитрился пережить смутное время, я не знаю. Должно быть, он как агент Штейна находился до известной степени под защитой Дорамина.
Так или иначе, но ему удалось выпутаться из всех опасных передряг, и я не сомневаюсь, что поведение его, какую бы линию он ни вынужден был избрать, было отмечено подлостью, словно наложившей печать на этого человека.
Вот его характерная черта: он был подл и в глубине души и внешне; ведь бывают же иные люди и внешне отмечены печатью великодушия, благородства или доброты. То была сущность его натуры, которая окрашивала все его поступки, страсти и эмоции; он бесновался подло, улыбался подло и подло грустил; и любезность его и негодование были подлы. Я уверен, что любовь его была самым подлым чувством, – но можно ли себе представить отвратительное насекомое влюбленным? И отвратительная внешность его была подлой, – безобразный человек по сравнению с ним показался бы благородным. Ему нет места ни на переднем, ни на заднем плане этой истории, – он просто шныряет на задворках ее, загадочный и нечистый, отравляя аромат ее юности и наивности.
Его положение было, во всяком случае, жалкое, но весьма возможно, что он извлекал из него и выгоду. Джим рассказал мне, что сначала был им принят любезно и дружелюбно до приторности.
– Парень был как будто вне себя от радости, – с отвращением сказал Джим. – Каждое утро он прибегал ко мне, чтобы пожать мне обе руки, черт бы его подрал! Но я никогда не мог заранее сказать, получу ли завтрак. Если удавалось за два дня три раза поесть, я считал, что мне повезло, а он каждую неделю заставлял меня подписывать чек на десять долларов. По его словам, мистер Штейн не желал, чтобы он кормил меня даром. А он, можно сказать, почти не кормил меня. Приписывал это неурядицам в стране и делал вид, что рвет на себе волосы, по двадцать раз на день выпрашивая у меня прощение; наконец я взмолился и попросил его не беспокоиться. Тошно было смотреть на него. Половина крыши над его домом провалилась, грязь, отовсюду торчат клочья сухой травы, рваные циновки хлопают по стенам. Он изо всех сил пытался доказать, что мистер Штейн в долгу у него за последние три года, но все его книги были изорваны, а иные потерялись. Он попробовал намекнуть, что это – вина его покойной жены. Каков негодяй! Наконец я ему запретил упоминать о покойной жене. Это доводило Джюэл до слез. Я не мог выяснить, куда девались все товары; на складе ничего не было, кроме крыс, а те веселились вовсю среди обрывков оберточной бумаги и старого холста. Меня все уверяли, что он зарыл где-то много денег, но от него я, конечно, ничего не мог добиться. Жалкое существование я влачил в этом проклятом доме. Я старался исполнить свой долг по отношению к Штейну, но мне приходилось думать и о других вещах. Когда я убежал к Дорамину, старый Тунку Алланг струсил и вернул все мои вещи. Это было сделано окольным путем и очень таинственно через одного китайца, который держит здесь лавочку; но как только я ушел от буги и поселился с Корнелиусом, все открыто заговорили о том, что раджа принял решение в скором времени меня убить. Приятно, не правда ли? А я не знал, что может ему помешать, если он действительно принял такое решение. Хуже всего было вот что: я невольно чувствовал, что никакой пользы Штейну не приношу, да и для себя толку не вижу. О, настроение было ужасное все эти шесть недель!
30
По его словам, он не знал, что помогло ему выдержать, – но, конечно мы можем догадываться. Он глубоко сочувствовал беззащитной девушке, находившейся во власти этого «низкого, трусливого негодяя». Видимо, Корнелиус обращался с ней ужасно, воздерживаясь только от побоев, – для этого, полагаю, ему не хватало храбрости. Он настаивал на том, чтобы она называла его отцом…
26
назарянами (назарейцами) магометане и иудеи называли христиан (Христос считается родом из Назарета)