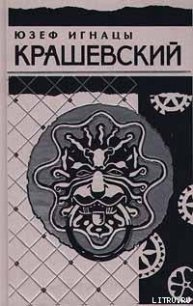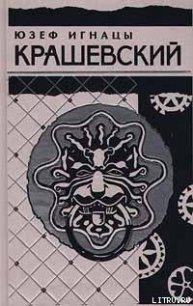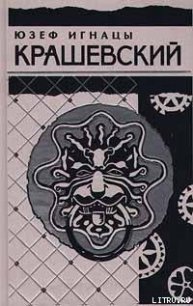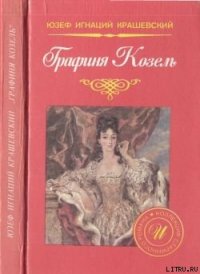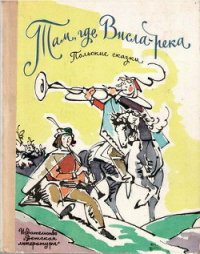Роман без названия - Крашевский Юзеф Игнаций (книги читать бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Больше расспрашивать Шарский не осмелился, но, как только ему разрешили выходить и он, полагая своим долгом не оставлять бедную вдову, отправился на Лоточек, — он не мог удержаться от желания хотя бы пройти по Немецкой улице. Возле Давидова дома он замедлил шаги, остановился и спросил у хорошо знакомого ему еврея-приказчика:
— Как там у вас поживают?
— Ничего, слава богу, здоровы!
— А Сара?
— Чего ж ей-то не быть здоровой! Только деликатная очень, ну прямо генеральская дочка! На днях свадьба будет.
Стась поглядел на окна, но все они были черные, пустые, — у него не было сил уйти, сердце сжималось от тоски и тревоги, но он подумал, что его вид может оживить у Сары, возможно, уже угасшие воспоминания, и, сделав над собою мучительное усилие, пошел прочь. Каждый шаг, удалявший его от этих окон, стоил ему труда — он то шел вперед, то останавливался, даже возвращался и, наконец, что есть сил побежал, чтобы себя преодолеть.
На Лоточке он застал Марту у ворот, во дворе было тихо и уныло, как на кладбище. Здесь и так никогда не слышно было веселья, а теперь и подавно — мысль о смерти словно одела саваном вдовий, сиротский домик.
Каролек лежал в своей спаленке бледный, с горящими глазами — он был очень возбужден, лихорадочно оживлен; у его ног, не сводя глаз с лица мальчика, сидела несчастная мать. Вокруг Каролека были разбросаны всевозможные предметы, принесенные ему для развлечения, — гравюры, книги, скрипочка, на которой он учился играть, бумага, карандаши, все, чем материнское сердце могло скрасить последние его минуты.
То было грустное, душераздирающее зрелище. У пани Дормунд на почерневших от плача веках виднелись следы слез, она не могла оторвать взгляда от этого угасающего существа — смотрела, прислушивалась к дыханию, умирала вместе с сыном. Станислав, предупрежденный о том, что дело плохо, вошел осторожно, стараясь не шуметь. И слезы брызнули у него из глаз, когда Каролек, увидев его, быстро повернулся и протянул к нему обе руки.
С трудом сдерживаемые слезы снова полились из глаз матери, и она выбежала из комнаты — ради спокойствия сына она старалась скрывать свои страдания и притворяться веселой.
— Ах, как я счастлив, что ты вернулся! — воскликнул Кароль. — Ты мне был так нужен, так нужен — но ты же был болен!
— Да, немного прихворнул.
— Но теперь-то ты уже здоров, ты останешься с нами, правда ведь? — И Кароль тревожно посмотрел на дверь. — Взгляни, — тихонько шепнул он, — нет ли там матери. Мне очень надо поговорить с тобой, только я боюсь, как бы она не услышала.
Шарский оглянулся, но пани Дормунд, видимо, ушла плакать в дальнюю комнату, всхлипываний не было слышно.
— Ты знаешь, — с живостью сказал Кароль, все же понизив голос, — а ведь у меня чахотка! Мой отец и две сестры умерли от нее, и я тоже умру!
— Ну что ты выдумываешь! — бледнея, остановил его Станислав.
— Нет, правда! Ох, как я хочу жить! Один бог знает, как я хотел бы жить ради нее, но все напрасно, напрасно, я должен умереть. Когда я еще был здоров и никто не мог подумать, что и во мне есть зародыш смертельной болезни, Марта часто мне рассказывала о болезни отца и сестричек — все было в точности, как у меня! Но мне кажется, что мама спокойна, добрый наш Брант убаюкивает ее надеждами, и она как будто ни о чем не догадывается… Ну и не надо, чтобы она заранее страдала. Ах, не так страшно умереть, как оставить ее одну, совсем одну на свете! О боже мой, вся моя надежда на тебя, Станислав!
— Дорогой мой, не терзай себя такими мыслями!
— Ну зачем же меня обманывать, я ведь знаю, что меня ждет! О, если бы ты мог заглянуть в мою душу, какая там идет борьба! Жизнь манит меня, я ощущаю в себе огромную ее силу, я не могу поверить в смерть и, однако, я знаю, я уверен, что скоро, очень скоро умру! Бывает, когда проснусь пораньше, хорошо отдохнувший, мысль о смерти кажется мне совершенно нелепой, но потом я понимаю, что меня всего только морочит моя жажда жизни! Силы меня покидают, уходят, с каждым днем я все слабей, все беспомощней… О, что она будет делать одна!
Каролек утер пот со лба и вздохнул.
— Слушай, — сказал он дрожавшему от волнения Станиславу, — ты должен заменить меня возле нее — ты будешь ее сыном. Но у тебя точно нет чахотки, ты уверен? Это было бы ужасно!
— Милый мой мальчик, успокойся, не мучь себя этими фантазиями, ты будешь жить.
— Нет, о нет! — возразил Кароль, качая головой. — Но ты меня заменишь, ты ей потом когда-нибудь скажешь, что я давно видел приближающуюся ко мне смерть, но ничего ей про это не говорил, чтобы не пугать. Ты скажешь, что я поручил тебе охранять ее. Ты будешь ей сыном. Ах, никого в целом мире! Четыре гроба! Четыре могилы! И тишина, тишина! О, как она это выдержит!
Станислав сжал руку бедному мальчику, предупреждая, что идет мать, и Кароль сразу заговорил о чем-то веселом. Пани Дормунд тоже вошла с посветлевшим лицом, усилием воли скрывая скорбь и чуть ли не улыбаясь. Оба были рады Станиславу, и Кароль в попытке невинного обмана говорил о том, что скоро, мол, выздоровеет и догонит товарищей, опередивших его в учении, и еще о разных посторонних предметах. Целый вечер прошел в странной, мучительной беседе, фоном для которой были страдания, страшные мысли о завтрашнем дне!
У ложа Каролека возобновилась для Шарского жизнь, полная самоотречения и труда.
Кто ряд лет корпел над книгами, заслонявшими ему доступ к жизни, и нетерпеливым взглядом мерил расстояние, отделявшее его от мира желанной свободы, тот поймет, что означают для студента последний час лекций, последний экзамен, распахивающий перед ним врата жизни, и прощание с жесткой студенческой скамьей.
Он мечтал об этом часе, и как мечтал! А когда наконец час пробил — грусть охватывает сердце, нежданная тоска-злодейка стесняет грудь… Кто знает, что нас ждет там, за порогом новой нашей жизни, а ведь здесь сколько покидаешь неповторимых, тихих, несравненных радостей! Кучка молодежи, связанная дружбою, ежедневным общением, единством мыслей и надежд, священный этот союз ныне распадается навеки, каждый, взяв страннический посох, будто на дорожном распутье, уходит в свою сторону, и даже если бы хотел снова встретить тех, с кем провел лучшие годы, удастся ли это?
А когда после десятков лет, изведав новую судьбу, которая проредила русые пряди на висках или припудрила их сединою, покрыла руки трудовыми мозолями, а глаза обожгла слезами, да, когда вновь встретятся те, чьи сердца бились так согласно, узнают ли, ах, узнают ли друг друга эти сердца, эти глаза, соединятся ли эти руки в дружеском пожатии?
Самые священные, самые чистые узы жизнь умеет разорвать, самые лучшие люди портятся, самые стойкие меняются. О, завтра, завтра, страшное это слово! Кто угадает его скрытое от нас лицо?
В решающие минуты, даже при полном незнании реальных условий, появляется все же некое их предчувствие — и эта молодежь, которая, соскочив со школьной скамьи, кидается очертя голову в пропасть, хотя и клянется в верности друг другу, хотя и желает встретиться но как-то не очень в это верит — руки дрожат, глаза плачут, сердца учащенно бьются… Когда же, когда же мы свидимся?
— Скоро! — говорят уста.:
— А может, никогда! — шепчет сердце.
Когда настало время навсегда расстаться товарищам, которых судьба связала узами дружбы, они решили устроить торжественное прощанье, поклясться помнить друг друга и в последний раз, с молодым еще пылом, обменяться рукопожатьями. Студенты побогаче настояли, чтобы вечеринка была устроена за их счет и была настоящей студенческой пирушкой, которая навек запечатлеется в памяти не только как прощальный вечер, но как час безумств, овеянных поэзией юности. Итак, заказали в складчину зал у Титуса и банкет на двадцать с лишним персон. Настоящий банкет! А ведь для тех, кто уже несколько лет поголадывал, основательный польский обед и тот показался бы пиром! Для таких нетрудно устроить сарданапалово [83] угощенье!
83
Сарданапал (Ашшурбанипал) — царь Ассирии (669–ок. 633 гг. до н. э.), известный своей склонностью к роскоши.