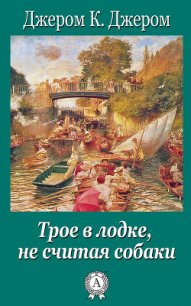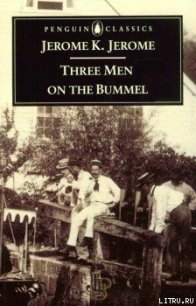Повести о Глассах - Сэлинджер Джером Дэвид (книги бесплатно без регистрации полные txt) 📗
Так или иначе, но весной 1925 года, после гастролей, и не ахти каких удачных, в бруклинском театре «Олби», когда мы, все пятеро, болели корью в невзрачной квартирке – три с половиной комнатенки в старом манхэттенском отеле «Алама» и Бесси подозревала, что она опять беременна (что оказалось ошибкой: наши младшие, Зуи и Фрэнни, родились позже, он – в 1930-м, она – в 1935 году), наша Бесси вдруг обратилась к преданному ей поклоннику «с огромными связями», и отец получил спокойное место, и с тех пор, неизменно, годами величал себя не иначе, как «главным администратором коммерческого радиовещания», чего никто и никогда не оспаривал. Так официально закончились затянувшиеся гастроли эстрадной пары «Галлахер и Гласс». И тут я хочу особо подчеркнуть и как можно достовернее доказать, что это необычное мюзик-холльно-цирковое наследие несомненно и постоянно играло очень значительную роль в жизни всех семи отпрысков нашего семейства. Как я уже говорил, двое младших стали просто профессиональными актерами. Но влияние наследственности сказалось не только на них. Например, моя старшая сестра Бу-Бу по всем внешним признакам – обыкновенная провинциалка, мать троих детей, совладелица гаража на две машины, и однако она в особенно радостные минуты жизни готова плясать до упаду, и я сам видел, к своему ужасу, как она отбивала – и очень лихо – чечетку, держа на руках мою племяшку, которой только что исполнилось пять дней. Мой покойный брат Уолт, погибший в Японии уже после войны от случайного взрыва (об этом брате я постараюсь говорить как можно меньше, чтобы как можно скорее закончить нашу портретную галерею), тоже танцевал отлично, и даже более профессионально, чем Бу-Бу, хотя и не так непосредственно. Его близнец – наш брат Уэйкер, наш монах, наш затворник-картезианец – еще мальчишкой втайне боготворил У.-С. Филдса 28, подражая этому вдохновенному, крикливому и все же почти святому человеку. Он часами мог жонглировать коробками от сигар и всякими другими штуками, пока не достиг удивительного мастерства. (В нашей семье бытует легенда, что его заточили в картезианский монастырь, то есть лишили места священника в городе Астория, чтобы избавить от постоянного искушения – причащать своих прихожан, стоя к ним спиной, шагах в трех, и бросая облатку через левое плечо, так, чтоб она, описав красивую дугу, попадала им прямо в рот.) Что до меня – о Симоре лучше скажу под конец, – то и я, само собой разумеется, тоже немножко танцую. Если попросят, конечно. Кроме того, могу добавить, что у меня нередко появляется такое ощущение, словно меня, как ни странно, иногда опекает мой прадедушка Зозо: я чувствую, как он неведомыми путями старается не дать мне споткнуться, как бы запутавшись в моих широченных клоунских штанах, когда я задумываюсь, бродя по лесу или входя в аудиторию, а может быть, он еще заботится и о том, чтобы, когда я сижу за машинкой, мой наклеенный нос иногда поворачивался на Восток.
Да, в конце концов, и наш Симор всю жизнь до самой смерти не меньше нас всех чувствовал на себе влияние нашей «родословной». Я уже упоминал, что, хотя, по-моему, трудно найти более личные стихи, чем стихи Симора, и что в них он открывается весь, до конца, все же ни в одной строчке, даже когда Муза Беспредельной Радости гонит его галопом, он не проронит ни единого словца из своей автобиографии. И хотя не всем это придется по вкусу, но я утверждаю, что все его стихи на самом деле – цирковой номер высокого класса, традиционный выход, где клоун жонглирует словами, чувствами и балансирует золотым рожком на подбородке вместо обычной палки, на которой вертится хромированный столик с бокалом воды. Могу привести еще более убедительные и точные доказательства. Давно уже хотел рассказать вам такую историю: в 1922 году, когда Симору было пять, а мне – три, Лес и Бесси несколько недель подряд выступали в одной программе с неподражаемым фокусником Джо Джексоном – он работал на сверкающем никелированном велосипеде, чей блеск ослеплял зрителей даже в самых последних рядах цирка почище всякой платины. Через много лет, вскоре после начала второй мировой войны, когда мы с Симором только что перебрались в собственную нью-йоркскую квартирку, наш отец – будем его называть просто Лес – как-то зашел к нам по дороге домой. Весь вечер он играл в пинокль, и, очевидно, ему очень не везло. Во всяком случае, он решительно отказывался снять пальто. Он сел. Он хмуро разглядывал нашу мебель. Он повертел мою руку, явно ища следы от никотина, потом спросил Симора, сколько сигарет он выкуривает за день. Ему почудилось, что в его коктейль попала муха. Наконец, когда наши попытки наладить разговор, по крайней мере для меня, явно провалились, он вдруг встал и подошел к недавно прикнопленной на стенку фотографии его с Бесси. Целую минуту он угрюмо разглядывал карточку, потом резко повернулся – наше семейство давно привыкло к его порывистым движениям – и спросил Симора, помнит ли он, как Джо Джексон долго катал его, Симора, вокруг арены на руле своего велосипеда. Сейчас Симор сидел в старом бархатном кресле у дальней стены с сигаретой в зубах – на нем была синяя рубашка, серые штаны, стоптанные мокасины, а на щеке, повернутой ко мне – порез после бритья, – но на вопрос он ответил сразу, и очень серьезно, в том тоне, в каком он обычно отвечал Лесу, – как будто тот всегда задавал ему именно такие вопросы, на какие он любил отвечать больше всего в жизни. Он сказал, что ему кажется, будто он никогда и не слезал с чудного велосипеда Джо Джексона. Не говоря о том, какие трогательные воспоминания этот ответ вызвал у моего отца, Симор сказал правду, чистую правду.
После предыдущей записи прошло два с половиной месяца. Пролетело. Приходится, слегка поморщившись, выпустить бюллетень, который, как мне теперь кажется, будет очень похожим на интервью с корреспондентом воскресного литературного приложения, где я собираюсь сообщить, что работаю в кресле, пью во время Творческого Процесса до тридцати чашек черного кофе, а в свободное время сам мастерю себе мебель; словом, все это звучит так, будто некий писатель без стеснения треплется о своей манере «творить», своем «хобби», своих наиболее пристойных «человеческих слабостях». Право, я вовсе не собираюсь тут интимничать. (По правде говоря, я даже себя сдерживаю изо всех сил. Мне и то кажется, что моему рассказу именно сейчас, как никогда, грозит опасность стать столь же интимным, как нижнее белье.) Так вот, я сообщаю читателю, что пропустил столько времени между этими главами, потому что девять недель пролежал в постели с острым приступом гепатита. (А что я вам говорил про нижнее белье? То, что я почти дословно повторил реплику из комического номера варьете: "Первая груша. Девять недель пролежала в постели с хорошеньким гепатитом. Вторая груша. Вот счастливица! А с которым именно? Они ведь оба очень хорошенькие, эти братья Гепатиты". Да, если я так заговорил о своем здоровье, лучше давайте вернемся к истории болезни.) Но если я сейчас сообщу, что уже почти неделя как я встал и румянец снова розой расцвел на моих щеках, не истолкует ли мой читатель неправильно это признание? И главным образом в двух отношениях. Во-первых, не подумает ли он, что я деликатно упрекаю его за то, что он позабыл окружить мое ложе букетами камелий? (Тут читатель, полагаю, с облегчением отметит, что Чувство Юмора с каждой секундой изменяет мне все больше и больше.) Во-вторых, может быть, он подумает, читая эту «историю болезни», что моя эйфория, о которой я так громко возвещал в начале этого рассказа, может быть, вовсе не ощущение радости, а просто, как говорится, «печенка взыграла». Возможность такого толкования меня крайне тревожит. Знаю одно – я был счастлив, работая над этим «Введением». Даже разлегшись, как я привык, на кровати, под Гипнозом Гепатита – одна эта аллитерация может привести в восторг, – я, с присущим мне уменьем приспособиться, был беспредельно счастлив.
Да, я счастлив сообщить вам, что и в данную минуту я себя не помню от радости. Хотя, не стану отрицать (и сейчас придется, как видно, изложить истинную причину – почему я выставляю напоказ мою бедную печенку), повторяю: я не стану отрицать, что после болезни я обнаружил одну жуткую потерю. Терпеть не могу драматических отступлений, но все же придется начать с нового абзаца.