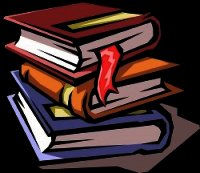В круге первом (т.2) - Солженицын Александр Исаевич (читаем книги бесплатно TXT) 📗
Сологдин отвечал как по-печатному, как о решённом давно:
— Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приёмчика. Я ведь не ошибаюсь?
Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчён и без этого!
— К тому ж напоминаю, что и лист пока сожжён. Теперь, если вы дорожите моим проектом — найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае — замминистру. И пусть приказ о моём назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия — и я принимаюсь за работу. И мы формируем специальную группу.
Вдруг распахнулась дверь. Без стука вошёл лысый худой Степанов с мертво-поблескивающими стеклами очков.
— Так, Антон Николаевич, — сказал он строго. — Есть важный разговор.
Степанов обращался к человеку по имени-отчеству! Это было невероятно.
— Значит, я жду приказа? — встал Сологдин.
Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твердо.
Яконов даже не сразу вник, о чём это так оживлённо говорил парторг.
— Товарищ Яконов! Только что у меня были товарищи из Политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьёзные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездилась группа, будем говорить — безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость, я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок! Вот мы сейчас с вами вдвоём подработаем резолюцию, потом соберём открытое партсобрание — и крепко ударим по низкопоклонству.
Дела Яконова, столь безнадёжные ещё вчера, круто поправлялись.
80
Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счёт.
Процедура выдачи арестанту письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Её нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге-почтальону. За глухою дверью, с глазу на глаз, духовный отец — кум, сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нём нет греховных смутных мыслей, — передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным, в нём была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхватанное на цитаты в досье, получившее внутри себя чёрную размазанную печать цензуры, — теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. (На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении; если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти, — это вызывало подозрение, как если б он покушался скопировать документы Генерального Штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел, — и их подшивали в его тюремное дело.) Итак, список был вывешен — и становились в очередь за письмами. Ещё становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить своё письмо за декабрь — его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэ-ков, сбивая остальных с толку.
Так в очереди подозревали друг друга «а иногда и знали точно, кто закладывает их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить.
Хотя советское тюрьмоведение и не опиралось прямо на опыт Катона Старшего, но верно следовало его завету: не допускать, чтобы рабы жили между собою слишком дружно.
По обеденному звонку взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, неодетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре и шмыгали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок переписки, очередь собралась особенно большая — человек сорок, и в коридоре не помещалась. Помощник дежурного, шебутной старшина, ретиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровья. Он отсчитал двадцать пять человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинетов начальства и сам всё время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением.
Как ни домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твердо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридона вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всём — и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он запирался, упорствовал — и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он ходил всё равно не в перерыв, чтоб не толкаться) — Шикин продолжал допрашивать Спиридона.
А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из Семёрки, один из основных её работников. Больше трёх месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были: «нет», «не пишут». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск — розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он.
Старшина махнул Дырсину идти — и первым в очереди стал озорно-сияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая:
— Иду деньги получать. Заработанные.
— Пройдите! — скомандовал старшина.
Доронин рванул вперёд навстречу пониклому возврату Дырсина.
— Ну, что? — уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Амантай Булатов.
Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина ещё вытянулось:
— Не знаю. Говорит — письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.
— …яди они! — уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. — Я тебе давно говорю — зажимают письма. Откажись работать!
— Второй срок припаяют, — вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.
Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему ещё было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остаётся до освобождения. Дырсин же разменял последний год.
Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. Не было в нём ни высоты, ни куполообразности — грязная брезентовая крыша, натянутая над землёй. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздревател, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки.
А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра — они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.
Среди гуляющих метался гравёр-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним петлю-две и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он: ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная; он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не будет писать — не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение, в самом деле, было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие.