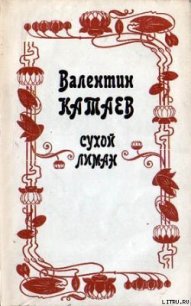Юношеский роман - Катаев Валентин Петрович (читать книги без регистрации TXT) 📗
Многие крестились.
Надо было вылезать из окопа на открытое со всех сторон пространство, где со звуком хлыста свистели пули.
Первым выбрался на бруствер взводный, крепкий унтер-офицер. Он тяжело перевалился через бруствер и, пригибаясь к земле, побежал вперед, становясь в тумане полупрозрачным. Следом за ним, подсаженный сзади солдатами, перевалился через бруствер ротный командир, отчистил от земли колени, побежал вперед и тоже стал полупрозрачным. За ним вылезли из окопа несколько взводных, отделенных и фельдфебель, а там начали неохотно переваливаться через бруствер и таять в легком тумане рядовые солдаты – некоторые бородатые, а большинство с почти детскими испуганными лицами, последнего набора – и становились полупрозрачными.
Окоп зловеще опустел.
…со вкрадчивым свистом летели шальные пули; иные из них ударялись о бруствер и отскакивали рикошетом, крутясь вдоль траншеи.
Пороховой дым настолько сгустился, что стало трудно дышать. Наблюдатель едва держался на ногах от усталости, нервов, напряжения и страха, который изо всех сил скрывал.
Я передал ему телефонную трубку, а сам прильнул к окулярам стереотрубы. Мы поменялись ролями. Наблюдатель стал телефонистом, а я, телефонист, стал наблюдателем.
Поднялась страшная винтовочная и пулеметная трескотня, сквозь которую издалека долетало слитное «ура» или что-то в этом роде, которое можно передать только звуками:
– А-а-а-а-а-а!…
Кроме меня с товарищами-артиллеристами да еще двух пехотных телефонистов, в глубине окопа не было уже ни души.
Изо всех сил, до боли в глазах напрягая зрение, пытался я сквозь завесу черного мелинитового дыма разрывов разглядеть в стереотрубу обстановку боя. Легкий ветерок помогал мне, относя в сторону траурную вуаль дыма. Я видел всюду – впереди, справа, слева – незаметно откуда-то взявшиеся цепи неприятельской пехоты. Стараясь перекричать грохот боя, я диктовал сидящему у моих ног телефонисту установки все время сокращавшейся дистанции. Разрывы наших снарядов вырывали из наступающих цепей неприятеля десятки человек, но цепи почему-то почти не редели.
Наша рота, ушедшая вперед, окопалась и задерживала беглым огнем почти батальон наступающих немцев.
Даже сейчас – через столько лет! – я вижу осеннее сжатое поле, во всех подробностях приближенное ко мне цейсовской оптикой стереотрубы: жнивье, усеянное живыми и убитыми, ползущими и неподвижно распластанными солдатами, и среди них черные гейзеры взрывающихся снарядов.
Каким-то чудом армия генерала Макензена была в тот раз остановлена, а мое предчувствие неизбежной смерти не оправдалось. Я не только не был убит, но даже не получил ни одной царапины…
«10 октября 916 г. Румфронт. Дорогая Миньона! Только сейчас дошло до меня Ваше письмо, а когда мое письмо дойдет до Вас – один бог знает.
Румынская кампания, представлявшаяся всем нам чуть ли не увеселительной прогулкой, обернулась тяжелейшими боями. Здесь воевать очень трудно. Не то что под Сморгонью, хотя там тоже было не мед. Но там я чувствовал себя дома, в России. А здесь Добруджа, какая-то странная заграница. Совершенно плоское открытое место, на горизонте голубоватые Балканы. Лесов совсем нет. Нечем укреплять блиндажи, негде укрываться от вражеской воздушной разведки, от немецких авиационных бомб, нечем маскировать орудия, разве что сухими стеблями кукурузы.
В этих местах, между Дунаем и Черным морем, воевали некогда Каменский, Кутузов.
Мы все время в движении. Исколесили всю Добруджу. Обносились, обросли бородами, изголодались. Обозы отстают. Кухни блуждают среди сухой кукурузы, не находя своих частей. Кроме того, пошли дожди.
Сейчас я лежу в палатке, по которой сыплет нудный, затяжной дождь. Полотно палатки желтого цвета, поэтому кажется, что оно освещено солнцем. А на самом деле темный, унылый, дождливый день, низкие тучи грязного цвета, всюду лужи, покрытые концентрическими кругами и белыми пузырями дождя, похожими на рыбьи глаза. Боюсь, что бумага, на которой я пишу это письмо, промокнет и Вы ничего не разберете. Временами ворчит гром поздней осенней грозы: такое впечатление, что по низким тучам проезжает какой-то небесный обоз. Издали доносятся звуки артиллерийской канонады. Два звука – грозы и орудий – сливаются, происходит дуэль «двух жульнических батарей – одной земной, другой небесной»…
Вы спросите, почему жульнических батарей? Не знаю. Мне так кажется. Вообще война – это сплошное жульничество перед человечеством. Простите!
Хотелось бы описать Вам по возможности как можно подробнее нашу обстановку. То наступаем, то отступаем… Несем потери… Теряем территорию… Вот, собственно, все, что я могу ответить на Ваш вопрос, как у нас идут дела. Дела как сажа бела. Не думаю, чтобы Вы что-нибудь поняли, если бы даже я и попытался как можно подробнее описать обстановку, тем более что я сам ничего не понимаю. Что-то мне сильно не нравится этот румынский фронт. Впрочем, может быть, мои сомнения происходят исключительно из-за паршивой погоды. Дождь барабанит по палатке. Откуда-то снизу подтекает вода. Писать трудно, тем более что мои товарищи телефонисты-наблюдатели рядом со мной с громкими криками дуются в картишки, в железку. Смеркается быстро. Настроение хоть повесься! Постараюсь это письмо послать с оказией, чтобы оно не попало в лапы военной цензуры. Кстати: что слышно в тылу? Солдаты, приезжающие из отпусков, распускают самые невероятные слухи. Такое впечатление, что все рушится, и войну мы проигрываем, и назревают события… Целую руку. Ваш А. Пл.».
Я лежал в палатке на сырой соломе, все время вытирая с лица дождевые капли, падающие сверху. Рядом играли в «железку». Уже настолько стемнело, что игроки зажгли огарок стеариновой свечи, прилепив ее ко дну пустой консервной банки.
Багровое пламя огарка, полузадушенное махорочным дымом, еще более сгущало сумерки, и на душе у меня было темно. Прилив давно уже начался, и только письмо Миньоне на некоторое время отвлекло меня от привычных мыслей о той, другой.
Но что это за привычные мысли?
Много раз в течение своей чрезмерно затянувшейся жизни я пытался понять, как же это случилось, и никак не мог понять. Что же между нами было? Самое странное, что между нами ничего не было.
Я ее любил. Она меня нет. Приходилось мне одному любить за двоих.
Когда мы с ней встретились, она еще вообще никого не любила. А ее почему-то любили все: подруги, знакомые гимназисты, даже один студент. В сущности, она была еще совсем девочка. Ей едва минуло пятнадцать. Она была еще бутон. Но тем не менее в ней, вероятно, уже угадывалась будущая обольстительная женщина. Она была более женственна, чем все ее подруги, хотя внешне выглядела моложе всех, даже меньше ростом. На первый взгляд она казалась совсем незаметной.
Однако, сама того не желая (а может быть, желая), она уже свела с ума двадцатилетнего Вольдемара. Вслед за Вольдемаром она свела с ума и меня.
Может быть, слишком сильно сказано: свела с ума. Во всяком случае, она как-то незаметно овладела моим воображением, всеми моими мыслями и чувствами. Так же, как и она, я еще был подросток, не созревший для любви, громадное чувство, вызванное ею, было мне не по возрасту, как бывает одежда не по размеру. Я не испытывал к ней физического влечения. Мне даже не могла прийти в голову мысль взять ее за руку, не говоря уж о желании обнять или поцеловать. Я не мог дать себе отчета в том, что же, собственно, мне от нее нужно. Мне было достаточно одного сознания, что она существует на свете, что она рядом, что я могу ее видеть, что мы принадлежим к одной молодежной компании и что я постоянно встречаюсь с ней в разных знакомых домах, на вечеринках, на прогулках.