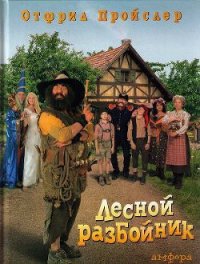Источник. Книга 2 - Рэнд Айн (читать книги полностью без сокращений бесплатно txt) 📗
— Послушай, Гейл. — Рорк встал, потянулся и сорвал с дерева толстый сук. Напружинив мышцы, он медленно, преодолевая сопротивление, согнул ветку в дугу. — Теперь я могу сделать из этого все что хочу: лук, копье, трость, поручень. В этом и есть смысл жизни.
— В силе?
— В труде. — Он отшвырнул сук. — Природа дает материал, и ты используешь его… О чем ты задумался, Гейл?
— О фотографии в моем кабинете.
Владеть собой, терпеливо ждать, видеть в терпении деятельный долг, сознательно исполняемую каждый день обязанность, своим безмятежным видом говорить Рорку: «Ты не мог потребовать от меня ничего труднее, но я рада, что ты этого хочешь», — вот что подчиняло себе жизнь Доминик.
Она стояла в стороне, спокойно наблюдая за Рорком и Винандом. Она молчала. Раньше ей хотелось понять Винанда. Теперь она поняла его.
Она приняла как должное, что, когда Рорк приходит к ним, в эти вечерние часы им располагает Винанд, а не она. Она принимала его как любезная хозяйка, радушно спокойная, не личность, а прелестная деталь дома Винанда. Она сидела во главе стола, а после ужина оставляла их вдвоем в кабинете.
Она одиноко сидела в гостиной, открыв дверь и погасив свет, сидела прямо и молча, устремив взгляд на узкую полоску света под дверью, которая вела в кабинет. Она думала: «Вот мой удел — смотреть на эту дверь, не жалуясь… Рорк, если ты решил так наказать меня, я принимаю наказание не как часть роли, которую я должна играть в твоем присутствии, а как долг, который надлежит исполнять в одиночку. Ты знаешь, что мне нетрудно перенести ярость, физическое насилие, но терпение для меня невыносимо. Ты выбрал самое трудное, и я вынесу все без ропота, вынесу ради тебя, любимый мой».
Когда Рорк смотрел на нее, в его глазах жила память обо всем.
Его взгляд утверждал, что ничего не изменилось и нет необходимости доказывать это. Ей казалось, что она отчетливо слышит его голос: «Что тебя угнетает? Разве мы когда-нибудь расставались? Разве реальны эта гостиная, твой муж и город за окнами, которого ты боишься? Ты понимаешь меня? Начинаешь понимать?» «Да», — внезапно вырвалось у нее вслух, и ей оставалось только надеяться, что это слово не прозвучало невпопад, зная, что Рорк услышит в нем ответ.
То, что он избрал, не было наказанием. Это было условие, которому они оба должны были подчиниться, последнее испытание. Она поняла его намерение, обнаружив, что может испытывать к нему любовь. Подтверждением этой любви было то, что он строил для нее дом, что она, как и он, любила Винанда, что она смирилась с этой ужасной ситуацией, с навязанным ей молчанием, со всем, что казалось непреодолимым препятствием, которое лишь доказывало ей, что никаких препятствий не существует.
Они не виделись наедине. Она выжидала. Она не ездила на стройку, а Винанду сказала:
— Я увижу дом, когда он будет построен.
Она никогда не спрашивала его о Рорке.
Руки ее всегда лежали на подлокотниках кресла, на виду, они были барометром ее терпения, так что она отказывала себе даже в облегчении, которое могли подарить резкие движения, когда Винанд возвращался домой поздно ночью и рассказывал, что провел вечер в доме Рорка, в доме, которого она никогда не видела.
Однажды она не выдержала и спросила:
— Что это, Гейл? Наваждение?
— Возможно, — ответил он. — Странно, что он тебе не нравится.
— Я этого не говорила.
— Это видно. И вообще-то я не удивлен. Это похоже на тебя. Он не нравится тебе именно потому, что относится к тому типу мужчин, которые должны тебе нравиться. Прошу тебя, не возмущайся моим наваждением.
— Я не возмущаюсь.
— Доминик, сможешь ли ты понять, если я скажу, что люблю тебя больше с тех пор, как встретил его? Даже когда ты лежишь в моих объятиях, мое чувство к тебе сильнее, чем прежде. Я более отчетливо ощущаю свое право на тебя.
Он говорил просто, с доверием, которое установилось между ними за последние три года.
Она смотрела на него, в ее взгляде, как всегда, были нежность без презрения и печаль без жалости.
— Я понимаю, Гейл.
Спустя некоторое время она спросила:
— Что он для тебя значит, Гейл? Что-то вроде храма?
— Что-то вроде власяницы, — ответил Винанд.
Когда она ушла наверх, он подошел к окну и некоторое время стоял там, глядя на небо. Он откинул голову назад, чувствуя, как напряглись мышцы шеи, и думал, что, возможно, особая торжественность созерцания неба исходит не от того, о чем размышляешь, а именно от того, что голова откинута назад.
VI
— Основная проблема современного мира, — сказал Элдсворт Тухи, — заключается в заблуждении, что свобода и принуждение несовместимы. Для того чтобы решить те гигантские проблемы, которые ведут к гибели современный мир, необходимо внести ясность в наши воззрения. По существу, свобода и принуждение — это одно и то же. Вот простой пример. Светофоры ограничивают вашу свободу — вы не можете пересечь улицу, где вам хочется. Но это ограничение есть ваша свобода не попасть под машину. Если бы вам предоставили работу, запретив оставлять ее, это ущемило бы ваше право выбирать ту область деятельности, которая вам нравится. Но одновременно освободило бы от страха перед безработицей. Как только на нас налагается новое обязательство, мы автоматически получаем новую свободу. Эти два явления неразделимы. Только принимая всяческие ограничения, мы обретаем истинную свободу.
— Правильно! — воскликнул Митчел Лейтон. Это был настоящий вопль, резкий, пронзительно внезапный, как пожарная сирена.
Гости посмотрели на Митчела Лейтона. Он полулежал в кресле, обитом гобеленом, вытянув ноги вперед, как несносный ребенок, гордый своей неуклюжей позой. Почти все в облике Митчела Лейтона было несоразмерно: его тело начало расти, обещая стать высоким, но этого не случилось — длинный торс покоился на коротких, толстых ногах; кости его лица были тонкими, но плоть, покрывающая их, сыграла с ним злую шутку: ее было недостаточно, чтобы лицо выглядело полным, но вполне достаточно, чтобы предположить, что он хронически болен свинкой. Митчел Лейтон выглядел постоянно надутым. Это было обычным выражением его лица. Казалось, будто он дуется всем телом.
Митчел Лейтон унаследовал четверть миллиарда долларов и потратил тридцать три года жизни, чтобы загладить эту свою вину.
Эллсворт Тухи, облаченный в смокинг, стоял, опершись на бюро. Его ленивое равнодушие носило оттенок благосклонной непринужденности и некоторой наглости, как будто окружающие отнюдь не заслуживали проявления хороших манер. Взгляд его блуждал по комнате, обстановка которой не была ни современной, ни колониальной. Меблировка являла собой гладкие поверхности и изогнутые наподобие лебединых шей опоры, повсюду были зеркала в черных рамах и множество светильников, ковры и хром; объединяло все это лишь одно — немыслимая цена, заплаченная за каждую вещь.
— Правильно, — воинственно произнес Митчел Лейтон, будто знал, что никто с ним не согласится, и хотел заранее всех оскорбить.
— Люди слишком суетятся вокруг понятия свободы. Я хочу сказать, что это неопределимое, затасканное понятие. И я далеко не уверен, что это такое уж благо. Я полагаю, что люди будут значительно счастливее в регулируемом обществе с определенными правилами и единым порядком — как в народном танце. Вы ведь знаете, как прекрасен народный танец. И как ритмичен. И все потому, что над ним потрудились многие поколения, и люди не позволят какому-нибудь глупцу изменить его. Это именно то, что нам нужно. Я хочу сказать: порядок и ритм. И конечно, красота.
— Это удачное сравнение, Митч, — заметил Эллсворт Тухи.
— Я всегда говорил, что у тебя творческое воображение.
— Я хочу сказать, что людей делает несчастными не ограниченность выбора, а неограниченный выбор, — добавил Митчел Лейтон.
— Решать, человек должен всегда решать, хотя его раздирают противоречия. В регулируемом обществе человек чувствует себя в безопасности. Никто не будет ему докучать, чтобы он что-то предпринимал. Ничего и не надо будет предпринимать, только, конечно, необходимо трудиться на благо общества.